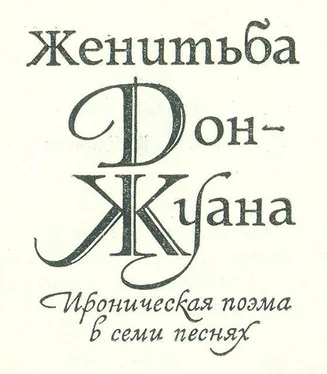Не пела лишь Наташа,
С видом чинным
Неугомонным занимаясь сыном.
А Федя деловито, без конца,
Переходил, как ангел примирений,
С ее колен на теплоту коленей
Легонько подпевавшего отца,
Как будто этой хитростью наивной
Хотел связать развяз
Любви взаимной.
Жена сидела
Рядышком с Жуаном,
Дразня супруга профилем чеканным,
Девически смягчавшимся в былом,
Коса все с тем же золотым избытком
Ее венчала свитком, словно слитком,
Красиво свитым греческим узлом.
Отбившиеся локоны горели,
Как лепестки цветка
На длинном стебле.
По части стебельков
И прочих трав
Мой друг при опыте был не лукав,
А искренне смотрел на все и даже
Все старшее в природе почитал,
Поэтому не о душе мечтал,
Мечтал о теле — тело было старше.
Меж тем бродяга песенный помалу
Лишь подошел
К священному Байкалу.
Есть в русской песне
Высшая отрада,
Дойдет до песни, ничего не надо,
Лишь песню дай — поющие не пьют.
И сам влюбленный в песенное диво,
Жуан впервые думал неучтиво:
«Черт побери, они еще поют!»
Тут вроде бы из-за Федяши в певни
Пришлось вмешаться
Марфе Тимофевне.
Так Федя
И на этот раз помог
Переступить той горенки порог,
Где бревна неприступные в оплоте
До сей поры его дивили той
Старинной первозданной простотой
И чистотой своей открытой плоти.
Они в линейно ровных строчках пакли
Еще, казалось,
Древним лесом пахли.
Подумал:
«Красоте не нужен лак».
Послушал: «Что ж Наташа медлит так?»
А как ей было, мучаясь расплатой
И продолжая в робости любить,
К нему через порог переступить
Бабенкою паскудно виноватой?
На шорох оглянулся по тревоге —
Жена уже стояла на пороге.
К застывшей у проема
Скорбным знаком
Жуан шагнул отяжелевшим шагом,
Да так, что пола заскрипел настил.
Наташа своей грешно-золотою
На грудь ему упала головою.
— Жуан, прости!..
— Мой сын тебя простил.
— А ты, Жуан? —заговорила снова.
— Молчи!.. Ни слова!..
Никогда ни слова!..
Не он ли
При долине перед взгорьем
Два года возносил себя над горем?
Не он ли у обрыва на краю,
Облаянный сторожевыми псами,
Мужскими, небегучими слезами
Два года отмывал любовь свою?
Превозмогая горести и боли,
Поднялся над самим собой
Не он ли?
Для страстного
Любовь — душевный оттиск,
А вместе с тем и смысла трудный поиск.
Но истина давалась нелегко,
Внушалась болью, вставшей над интригой.
Перед любовью вечной и великой
Все злое, однодневное — мелко.
Для страстного не может быть иначе,—
Простив однажды,
Страстный любит жарче.
Не помирила теплая постель,
Супругов не помирит колыбель
И не сведут любые комитеты,
И кто бы ни просил, и ни грозил…
— Жуан, сначала свет бы погасил!..
— Пусть, пусть горит до самого рассвета!..—
Хотя любовь при свете лучше зрима,
Она стихами неизобразима.
— Молчи, молчи,
Не приступы стыда,
Придумали одежду холода…—
Жуан болтал с шутливостью игривой,—
Ты косы расплети по всей длине,
Люблю тебя на золотой волне
Лицом ко мне с улыбкою счастливой!..
Молчи, молчи!..—
Теперь, сказать не к ночи,
Заговорил он тише и короче.
Но в жарком буйстве
Расплетенных кос,
В глазах жены был некий парадокс,
Который женщину в любви прекраснит,
О некоей загадке говорит:
При жажде счастья взгляд ее горит,
При полном счастье почему-то гаснет.
А разве бы все это, небезгрешный,
Жуан заметил
В темноте кромешной?
Так в горенке
С любовью, страстно спетой,
Метался свет до сутеми рассветной.
Себя не ставя во главу угла,
Жуан при полном торжестве задора
Не вел себя нахально, как обжора:
Поел — и отвалился от стола,<���—
А как бы говорил хозяйке Нате:
Нет, нет, вы этот стол
Не прибирайте!
А утром,
Давшим счет хорошим дням,
Он обновленным встал по всем статьям,
По-новому решительным и смелым.
В колонии, затронутою ржой,
Он обновился смутною душой,
Но прозябал нетерпеливым телом.
Теперь, когда поднялся и умылся,
Душой и телом
Заново родился.
Чаевничать,
Опохмелясь слегка,
С остатками садились пирога,
А он, остывший, был куда вкуснее.
Жуан, настроенный на добрый лад,
Наташи перехватывая взгляд,
Лукаво переглядывался с нею.
Та отвечала, будучи польщенной,
Улыбкой сдержанной
И чуть смущенной.
Читать дальше