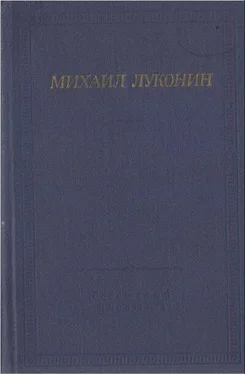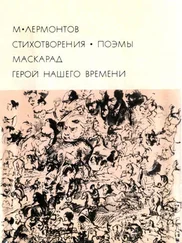Верблюды ветер нюхали подувший,
солончаковые бока их обожглись.
Висели стрепеты,
как рваные подушки,
перо,
сухое от жары,
роняя вниз…
Огонь — это и огонь тайных дум. Пожар чувств, раздуваемых ветром. Иссушающий ветер гордости, дар гордости, шок гордости..
Американцы на Тракторном. Специалисты. Обедают отдельно, в специальной столовой. А в цеху — аврал. Первый трактор собирают. Москва ждет, партийный съезд ждет! Сборщики, не так давно пришедшие в лаптях из деревни, насаживают колесо на полуось. Не лезет! Бегут слесаря; обжигая руки, сдирают лишнее — шуруют напильниками посреди цеха, выстроенного по последнему слову американской техники. Лихорадка, горячка, шок!
Спецы, правда, про навоз — ни звука: вежливые. У этих реакции потоньше:
Американцы щурились:
«Коллеги,
мы едем, оставляем вас одних.
Не трактора вам делать, а телеги», —
выплевывали жвачку в проходных…
Поворот темы — чисто луконинский! Голодный пацан, сквозь прутья беседки жадно глядящий, как обедают американцы, — его герой. Только ли голод жжет его? Нет, больше. Визг напильников в ушах. Горькая обида: доказать им…
Опаляющая ответная гордость держит душу героя, держит поэму. Она определяет поступки героев центральной части, где под реальными именами выведены главные лица луконинского родословия, и прежде всего его дед Ефим Денисович Луконин. Тот самый, что вилами выгнал сына из дому, а потом в его же дом — постучался..
Сын от отца откалывается — из-за гордости: не хлебом единым жив человек! И сбрасывает голодный сын с крыльца привезенный Ефимом мешок муки: не хочу твоего! Подавитесь! Гордость на гордость.
Двадцать лет проходит. Уж в могиле сын, а счеты все не сведены: внук наследует дедов нрав. Дедово упрямство! А дед — жив… Ловит внука у комбеда, зазывает в дом, кормит так, как тому и не снилось: «ложка в жиру!» Мать, «краснокосыночница», отговаривает: «Не ходи туда, слышишь, сыночек, пусть богатством подавится, зверь!..» Гордость нищих, гордость голодных!
И еще пять лет проходит; переламывается наконец жизнь: дед сослан, а внук в городе: бегает в школу. Но не сведены счеты. Может быть, это сильнейшая во всех луконинских поэмах сцена: не просто кусок хлеба дают вернувшемуся деду. Хлеб — ответ, довод в давнем споре.
И был он страшен, дед, в минуту эту.
Детей прижали женщины к груди.
«Опомнись, тятя…»
— «Нет, пойду по свету».
Он взял котомку.
«Темень, не ходи!..»
— «Сдыхайте вы,
пойду своей дорогой».
Шагнул он;
борода была в слезах,
дрожали ноздри давнею тревогой,
огонь плясал в косых его глазах…
Страшная сцена. Страшна пропасть, проточенная воспаленной гордостью. Неутолима жажда достоинства, прожигающая душу, еще вчера втоптанную в унижение, — страшно распрямление такой пружины. «Подохнешь!..» — «.. На ваши слезы поглядеть хочу…» И визжат в ушах напильники, и щурятся сытые американцы: «Не трактора вам делать, а телеги…»
Дед уходит. Уходит из жизни внука. Но не из памяти. Оставил внуку загадку. И, мучась над этой загадкой, повзрослевший внук всматривается в старую фотографию, в крупные дедовы руки в узлах жил, и неожиданно для себя, десятилетня спустя, вдруг жалеет дедушку. И — ненавидит его. За то ненавидит, что не дал дед полюбить себя. Дедова гордыня у этого внука: «Есть еще твое в моей крови…» С этим и надо жить — в новом, мирном времени. Он доказывает свое, внук. Берет все от жизни. Он утверждает свою правду, вчерашний свинопас, «кухаркин сын», голь перекатная. Он чувствует себя хозяином земли! К ногам любимой готов он положить все это: эту ширь, эту даль, эту глубину…
А ты молчала, век не размыкая,
потом сказала:
«Сыро над водой…
Греби обратно…»
Да, ты вся такая.
Я замирал над зреющей бедой…
Придет час — вспомнится это предчувствие. Или рок такой над «жестколицыми» — именно на любви, на нежности подрываться?..
Еще дважды в шестидесятые годы Луконин обратится к жанру поэмы. Но ни «Поэма возвращения» (1962), ни «Обугленная граница» (1967–1968), похожие, впрочем, больше на развернутые стихотворения, чем на поэмы луконинского масштаба, не стали событиями в литературе. Логика развития повернула Луконина к «чистой» лирике; именно как лирик он в шестидесятые годы еще раз вышел на авансцену литературы. И это было нелегкое испытание.
8
Потом, когда кончилось и это десятилетие, когда «испытание на разрыв», выпавшее Луконину, осталось далеко позади, когда уже и « преодоление» этих событий в душе стало фактом, и « необходимость» свершившегося была тяжко осознана, и «вздох облегчения» вырвался и тоже был осмыслен поэтически, когда все эти поименованные мной сейчас поэтические циклы и книги прочно вошли в нашу лирику шестидесятых годов и критики поэзии признали за Лукониным одно из видных мест в ней, — у него в 1971 году вырвалось: «Наверно, так писать стихи нельзя…» [34] См. стихотворение «Наверно, так писать стихи нельзя…».
Опасно так писать стихи — когда не «сочиняешь», не «воображаешь» их, а рассказываешь в них реальную душевную драму. «Опасно жить…» Опасно сердечным разрывом платить за такую, в общем-то, эфемерность, как «качество стиха».
Читать дальше