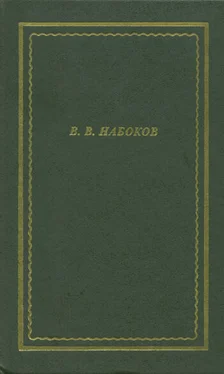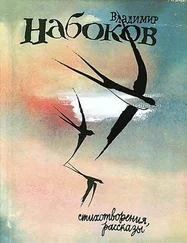А тот уж знает, что хозяйке надо,
и жители хрустальные ей рады,
и одного она берет.
Бесшумная, сияя желтым платьем,
протягивает руку, и невнятен
звук выключателя: трик-трак.
Сквозь темноту наклонного паркета
уходит силуэт тропинкой света,
дверь закрывается, и — мрак.
Но чем я так пронзительно взволнован,
откуда эта радость бытия?
И опытом каким волшебно-новым
обогатился я?
<5 мая> 1930
Еще темно. В оркестре стеснены
скелеты музыки, и пусто в зале.
Художнику еще не заказали
густых небес и солнечной стены.
Но толстая растерзана тетрадь,
и розданы страницы лицедеям.
На чердаках уже не холодеем.
Мы ожили, мы начали играть.
И вот сажусь на выцветший диван
с невидимой возлюбленною рядом,
и голый стол следит собачьим взглядом,
как я беру невидимый стакан.
А утром собираемся в аду,
где говорим и ходим, громыхая.
Еще темно. Уборщица глухая
одна сидит в тринадцатом ряду.
Настанет день. Ты будешь королем.
Ты — поселянкой с кистью винограда.
Вы — нищими. А ты, моя отрада,
сама собой, но в платье дорогом.
И вот настал. Со стороны земли
замрела пыль. И в отдаленье зримы,
идут, идут кочующие мимы,
и музыка слышна, и вот пришли.
Тогда-то небожителям нагим
и золотым от райского загара,
исполненные нежности и жара,
представим мир, когда-то милый им.
6 октября 1930
Спросонья вслушиваюсь в звон
и думаю: еще мгновенье —
и вновь забудусь я… Но сон
уже утратил дар забвенья —
не может дочитать строку,
восстановить страну ночную,
обратно съехать по ледку…
Куда там! — в оттепель такую.
Звон в отопленье по утрам —
необычайно музыкальный:
удар или двойной тра-рам,
как по хрустальной наковальне.
Март, ветреник и скороход,
должно быть, облака пугает:
свет абрикосовый растет
сквозь веки и опять сбегает.
Тут, перелившись через край,
вся нежность мира накатила:
пса молодого добрый лай,
а в комнате — твой голос милый.
<���Январь 1931>
Прекрасный плод, увесистый и гладкий,
ты светишься, как полная луна;
глухой сосуд амброзии несладкой,
душистый холод белого вина.
Лимонами блистают Сиракузы,
Миньону соблазняет апельсин,
но ты один достоин жажды Музы,
когда она спускается с вершин.
<24 января> 1931
389. ИЗ КАЛМБРУДОВОЙ ПОЭМЫ «НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» {*}
(Vivian Calmbrood's «The Night Journey»)
От Меррифильда до Ольдгрова
однообразен перегон:
всё лес да лес со всех сторон.
Ночь холодна, луна багрова.
Тяжелым черным кораблем
проходит дилижанс, и в нем
спят пассажиры, спят, умаясь:
бессильно клонится чело
и вздрагивает, поднимаясь,
и снова никнет тяжело.
И смутно слышатся средь мрака
приливы и отливы снов,
храпенье дюжины носов.
В ту ночь осеннюю, однако,
был у меня всего один
попутчик: толстый господин
в очках, в плаще, в дорожном пледе.
По кашлю судя, он к беседе
был склонен, и пока рыдван
катился грузно сквозь туман,
и жаловались на ухабы
колеса, и скрипела ось,
и всё трещало и тряслось,
разговорились мы.
«Когда бы
(со вздохом начал он) меня
издатель мой не потревожил,
я б не покинул мест, где прожил
всё лето с Троицына дня.
Вообразите гладь речную,
березы, вересковый склон.
Там жил я, драму небольшую
писал из рыцарских времен;
ходил я в сюртучке потертом,
с соседом, с молодым Вордсвортом,
удил форелей иногда
(его стихам вредит вода,
но человек он милый), — словом,
я счастлив был — и признаюсь,
что в Лондон с манускриптом новым
без всякой радости тащусь.
В лирическом служенье музе,
в изображении стихий
люблю быть точным: щелкнул кий,
и слово правильное в лузе;
а вот изволь-ка, погрузясь
в туман и лондонскую грязь,
сосредоточить вдохновенье:
всё расплывается, дрожит,
и рифма от тебя бежит,
как будто сам ты привиденье.
Зато как сладко для души
в деревне, где-нибудь в глуши,
внимая думам тиховейным,
котенка за ухом чесать,
ночь многозвездную вкушать,
и запивать ее портвейном,
и, очинив перо острей,
всё тайное в душе своей
певучей предавать огласке.
Читать дальше