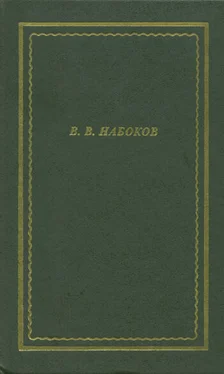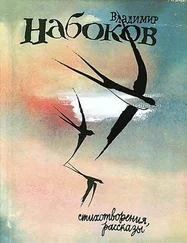Скажешь ты Богу: я дома.
(Кладбище. Мост. Поворот.)
Будет старик незнакомый
Вместо дубка у ворот.
3 мая 1920; Кембридж
Пока в тумане странных дней
еще грядущего не видно,
пока здесь говорят о ней
красноречиво и обидно, —
сторонкой, молча, проберусь
и, уповая неизменно,
мою неведомую Русь
пойду отыскивать смиренно —
по черным сказочным лесам,
вдоль рек, да по болотам сонным,
по темным пашням, к небесам
бесплодной грудью обращенным.
Так побываю я везде,
в деревню каждую войду я…
Где ж цель заветная, о, где,
непостижимую, — найду я?
В лесу ли — сумраком глухим
сырого ельника сокрытой, —
нагой, разбойником лихим
поруганною и убитой?
Иль поутру, в селе пустом, —
о жданная! — пройдешь ты мимо,
с улыбкой на лице простом
задумчиво-неуловимой?
Или старушкой встанешь ты
и, в голубой струе кадильной,
кладя дрожащие кресты,
к иконе припадешь бессильно?
Где ж просияет берег мой?
В чем угадаю лик любимый?
Русь! иль во мне, в душе самой
уж расцветаешь ты незримо?
<1921>
Шла мимо Жизнь; но ни лохмотий,
ни ран ее, ни пыльных ног
не видел я… Как бы в дремоте,
как бы сквозь душу звездной ночи, —
одно я только видеть мог:
ее ликующие очи
и губы, шепчущие: Бог!
ИЗ СБОРНИКА «ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧОРБА. РАССКАЗЫ И СТИХИ» {*}
204. ОТ СЧАСТИЯ ВЛЮБЛЕННОМУ НЕ СПИТСЯ {*}
От счастия влюбленному не спится;
стучат часы; купцу седому снится
в червонном небе вычерченный кран,
спускающийся медленно над трюмом;
мерещится изгнанникам угрюмым
в цвет юности окрашенный туман.
В волненье повседневности прекрасной,
где б ни был я, одним я обуян,
одно зовет и мучит ежечасно:
на освещенном острове стола
граненый мрак чернильницы открытой,
и белый лист, и лампы свет забытый
под куполом зеленого стекла.
И поперек листа полупустого
мое перо, как черная стрела,
и недописанное слово.
18 мая 1928; Берлин
Когда, в приморском городке,
средь ночи пасмурной, со скуки
окно откроешь, вдалеке
прольются шепчущие звуки.
Прислушайся и различи
шум моря, дышащий на сушу,
оберегающий в ночи
ему внимающую душу.
Весь день невнятен шум морской,
но вот проходит день незваный,
позванивая, как пустой
стакан на полочке стеклянной, —
И вновь в бессонной тишине
открой окно свое пошире,
и с морем ты наедине
в огромном и спокойном мире.
Не моря шум — в тиши ночей
иное слышно мне гуденье:
шум тихий родины моей,
ее дыханье и биенье.
В нем все оттенки голосов
мне милых, прерванных так скоро, —
и пенье пушкинских стихов,
и ропот памятного бора.
Отдохновенье, счастье в нем,
благословенье над изгнаньем…
Но тихий шум не слышен днем
за суетой и дребезжаньем.
Зато — в полночной тишине
внимает долго слух неспящий
стране родной, ее шумящей,
ее бессмертной глубине…
6 июня 1926
Ища сокровищ позабытых
и фараоновых мощей,
ученый в тайниках разрытых
набрел на груду кирпичей,
среди которых был десяток
совсем особенных: они
хранили беглый отпечаток
босой младенческой ступни,
собачьей лапы и копытца
газели. Многое за них
лихому времени простится —
безрукий мрамор, темный стих,
обезображенные фрески…
Как это было? В синем блеске
я вижу красноту песков.
Жара. Полуденное время.
Еще одиннадцать веков
до звездной ночи в Вифлееме.
Кирпичник спит, пока лучи
пекут, работают беззвучно.
Он спит, пока благополучно
на солнце сохнут кирпичи.
Но вот по ним дитя ступает,
отцовский позабыв запрет,
то скачет, то перебегает,
невольный вдавливая след,
меж тем как, вкруг него играя,
собака и газель ручная
пускаются вперегонки.
Внезапно — окрик, тень руки:
конец летучему веселью.
Дитя с собакой и газелью
скрывается. Всё горячей
синеет небо. Сохнут чинно
ряды лиловых кирпичей.
Улыбка вечности невинна.
Мир для слепцов необъясним,
но зрячим всё понятно в мире,
и ни одна звезда в эфире,
быть может, не сравнится с ним.
Читать дальше