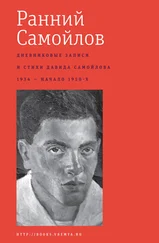— Какой-то он странный. Говорит одни банальности, вроде того, что ему нравится Пушкин.
Бедная дама привыкла к тому, что поэты стараются говорить не то, что другие, и вести себя как-то особенно.
А ему самоутверждаться не нужно было. Он был гордый, и если и суетный, то не в этом, не в том, что он называл — работа.
Я, может быть, поэтому и мало запомнил, о чем мы говорили. Наверное, он мало высказывал оригинальных и необычных мыслей. Их бы я запомнил. И вместе с тем впечатление от него было огромное. И тогда же я торопливо и кратко записал в тетрадке, что он мудр, добр, собран, несуетен и прекрасен. Это шло не от умозрения, а от другого — от зрения сердцем. И помню тогдашнее ощущение тайного восторга, когда мы сидели с ним на лавочке над Окой несколько часов и переговаривались неторопливо.
Почему-то весь день этот мы не расставались. Не читали друг другу стихов, не вели очень умных разговоров. Но время текло быстро и важно, если так можно сказать о течении времени.
Жил он в маленьком домике с высокой терраской. Почему-то теперь мне кажется, что домик был пестро раскрашен. От улицы отделен он был высоким забором с тесовыми воротами.
С терраски, поверх забора, видна была Ока. Мы сидели и пили «Телиани», любимое его вино. Пить ему было нельзя и курить тоже.
Помню, тогда он читал стихи Мандельштама об Армении. И рассказывал о том, как переводит грузин.
Потом он говорил, что поэтов нынешнего века губит отсутствие культуры, даже первостепенно талантливых, вроде Есенина. Он назвал именно Есенина.
— Вы знаете, что я читаю? — спросил он.
И я думал, что после разговора о культуре он покажет мне какого-нибудь грека или римлянина или редкую историческую книгу, но он вынес растрепанный комплект журнала «Огонек», не нашего «Огонька», а того, что издавался до революции, в 10-е годы.
Лишь много позже я подумал, что «Огонек» 10-х годов был его способом снятия противоречий, противоречий между убогим реквизитом и высокими словами пьесы.
Тогда я вспомнил, что внутри раскрашенного домика висели мещанские картинки, и хозяйка была старая карга, и в ухоженном саду под яблоней дымился самовар. И, конечно, здесь был уместен «Огонек», а не Гораций или Гесиод. И «Огонек» был тем же портфелем — бутафория, соломинка, броня.
Пришел писатель N и что-то рассказывал, улыбаясь большим ртом. Но скоро почувствовал, что не нужен, и ушел. И мы снова сидели вместе, и чем больше пили вина, тем становилось мне грустнее. И тут я понял отчего: я понял, что он умирает. И понял, что он сам знает об этом.
Наверное, это самое удивительное свойство поэтов — они знают, что умирают. И им самим кажется, что это вовремя.
Заболоцкий знал и готовился заранее. Готовился так, как все люди, которые свой способ жить называют: работа.
Один старый плотник, настоящий мастер, сказал мне: «Вот дострою этот дом и помру». И Заболоцкий достраивал свой дом. Собрал все стихи в большой том и все, что ему было не нужно, все, что казалось ему лишним, отбросил. Достраивал дом и готов был умереть.
Я думаю, что живые в этом вопросе не должны полностью считаться с поэтом. Когда он умер, нужно издавать все, что осталось. Насколько меньше было бы Пушкина, если бы пропали для нас его заметки, строки, неоконченные стихи — все, что осталось помимо «достроенного дома».
Но достоинство поэта в том и заключается, что он желает оставить дом достроенным, таким, как он его задумал сам. А потомки из оставшегося материала пусть построят еще один дом или пристройку. И поэт в целом есть эти два дома. А вот Блок построил один дом. И на этот дом ушло все. И ни на что больше не осталось. Это редкий поэт — Блок, поэт, который о себе знал все.
Заболоцкий умер той же осенью. Мне позвонила Агнесса и сказала, что Заболоцкий умер. Мы тут же поехали к нему.
Он лежал еще без гроба, на столе. И лицо было важное, белое и спокойное. Опять — римлянин. И потому, что прикрыт он был простыней, как тогой, уже вовсе не осталось Павла Ивановича и Каренина. Было важное, серьезное, скульптурное.
И маленькая женщина, большеглазая и не плачущая,— вот на кого была похожа дочь,— маленькая женщина, его жена, сидела в уголочке и не знала, куда деть руки.
Так мне это запомнилось, что главное для нее — незнание, куда деть руки. Рассказывала, что он пошел в ванну побриться. И упал. И умер через десять минут.
Пришел Слуцкий и привел трех скульпторов. Они сразу заполнили комнату делом — готовились снять маску.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
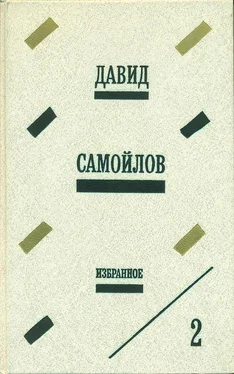
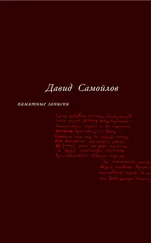

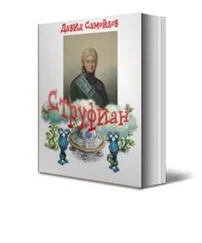
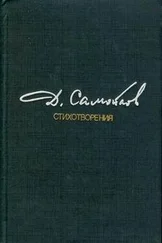

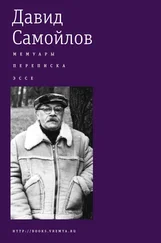
![Давид Самойлов - Ранний Самойлов - Дневниковые записи и стихи - 1934 – начало 1950-х [litres]](/books/431447/david-samojlov-rannij-samojlov-dnevnikovye-zapisi-i-stihi-1934-nachalo-1950-h-litres-thumb.webp)