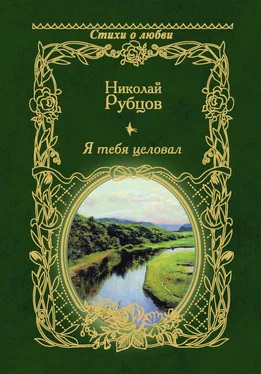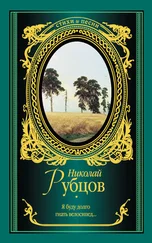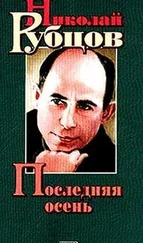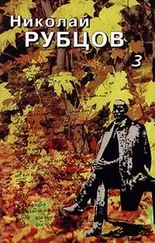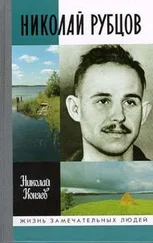Николай Михайлович Рубцов
Я тебя целовал…
«Мы будем свободны, как птицы…»
– Мы будем
свободны,
как птицы, —
ты шепчешь
и смотришь с тоской,
как тянутся птиц вереницы
над морем,
над бурей морской…
И стало мне жаль отчего-то,
что сам я люблю
и любим…
Ты птица иного полета…
Куда ж мы
с тобой
полетим?!
Ленинград,
март 1962
В окнах зеленый свет,
странный, болотный свет..
Я не повешусь, нет,
не помешаюсь, нет…
Буду я жить сто лет,
и без тебя – сто лет.
Сердце не стонет, нет,
Нет,
сто «нет»!
Ленинград,
сентябрь 1961
Погода какая!..
С ума сойдешь:
снег, ветер и дождь-зараза!
Как буйные слезы,
струится дождь
по скулам железного Газа…
Как резко звенел
в телефонном мирке
твой голос, опасный подвохом!
Вот, трубка вздохнула в моей руке
осмысленно-тяжким вздохом,
и вдруг онемела с раскрытым ртом…
Конечно, не провод лопнул!
Я
дверь автомата
открыл пинком
и снова
пинком
захлопнул!..
И вот я сижу
и зубрю дарвинизм.
И вот, в результате зубрежки —
внимательно
ем
молодой организм
какой-то копченой рыбешки…
Что делать? —
ведь ножик в себя не вонжу,
и жизнь продолжается, значит!..
На памятник Газа
в окно гляжу:
Железный!
А все-таки… плачет.
Ленинград,
1960
Эх, коня да удаль азиата
мне взамен чернильниц и бумаг, —
как под гибким телом Азамата,
подо мною взвился б
аргамак!
Как разбойник,
только без кинжала,
покрестившись лихо
на собор,
мимо волн Обводного канала —
поскакал бы я во весь опор!
Мимо окон Эдика и Глеба,
мимо криков: «Это же – Рубцов!»,
не простой,
возвышенный,
в седле бы —
прискакал к тебе,
в конце концов!
Но наверно, просто и без смеха
ты мне скажешь: «Боже упаси!
Почему на лошади приехал?
Разве мало в городе такси?!»
И, стыдясь за дикий свой поступок,
словно Богом свергнутый с небес,
я отвечу буднично и тупо:
– Да, конечно, это не прогресс…
Ленинград,
лето 1961
«Бывало, вырядимся шиком…»
Бывало,
вырядимся
с шиком
в костюмы, в шляпы, и – айда!
Любой красотке
с гордым ликом
смотреть на нас приятно,
да!
Вина
веселенький бочонок —
как чудо,
сразу окружен!
Мы пьем за ласковых девченок,
а кто постарше,
те – за жен…
Ах, сколько их
в кустах
и в дюнах,
у белых мраморных колонн, —
мужчин,
взволнованных и юных!
А сколько женщин! —
Миллион!
У всех дворцов,
у всех избушек
кишит портовый праздный люд.
Гремит оркестр,
палят из пушек,
дают
над городом
салют!
Ленинград,
март, 1962
Мы встретились у мельничной запруды,
и я ей сразу
прямо всё сказал!
– Кому, – сказал, – нужны твои
причуды?
– Зачем, – сказал, – ходила на вокзал?
Она сказала: – Я не виновата…
– Ну, да, – сказал я, – кто же виноват?
Она сказала: – Я встречала брата.
– Ха-ха, – сказал я, – разве это брат?!
В моих мозгах чего-то нехватало:
махнув на все, я начал хохотать!
Я хохотал. И эхо хохотало.
И грохотала мельничная гать.
Она сказала: – Ты чего хохочешь?
– Хочу, – сказал я, – вот и хохочу!
Она сказала: – Мало ли, что хочешь!
Тебя я слушать больше не хочу!
Конечно, я ничуть не испугался.
Я гордо шел на ссору и разлад.
И зря в ту ночь сиял и трепыхался
в конце безлюдной улицы закат!..
Ленинград,
1960
Я люблю, когда шумят березы,
когда листья падают с берез.
Слушаю, и набегают слезы
на глаза, отвыкшие от слез…
Все очнется в памяти невольно,
отзовется в сердце и крови.
Станет как-то радостно и больно,
будто кто-то шепчет о любви.
Только чаще побеждает проза.
Словно дунет ветром хмурых дней.
Ведь шумит такая же береза
над могилой матери моей…
На войне отца убила пуля.
А у нас в деревне, у оград —
с ветром и с дождем гудел, как улей,
вот такой же поздний листопад…
Русь моя, люблю твои березы:
с ранних лет я с ними жил и рос!
Потому и набегают слезы
на глаза, отвыкшие от слез…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу