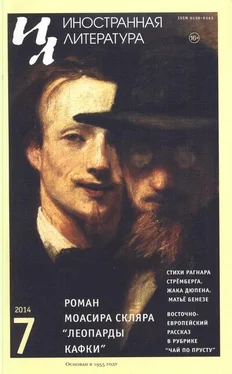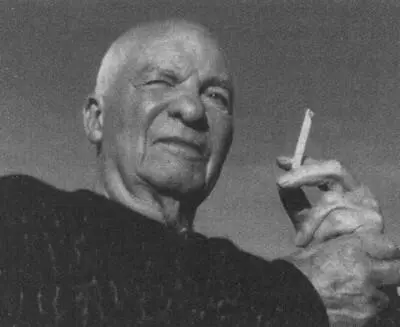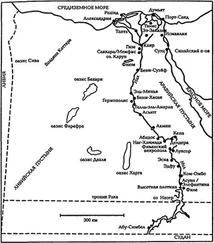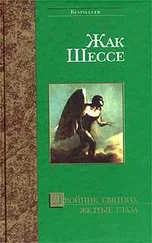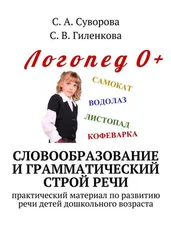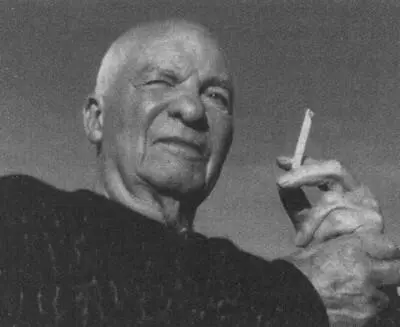
* * *
Считанными словами, словно водоворотом,
где-то в стене пробило
даже не окно, амбразуру,
чтобы удерживать на кончиках пальцев
эту область ночи, в которой тонет дорога,
и на исходе сил — обнаженную речь
* * *
Ночь погружает в комнату
ледяное неодолимое лезвие
словно акулий плавник
и пока гора приживляет
корни огня
добела раскаляются
пыль у подножья
и кровь
отворенная сталью
* * *
Между побудкой стиха и его угасанием
через брешь
в пятнистом скате горы
пробивается миндалевидный огонь,
юная, новорожденная ночь
на смену сметенной прежней
она идет, как должна,
обжигая
хладнокровно и бережно
гроза продолжает род
и скрепляет молнией
* * *
Опыт неохватный, чрезмерный, неизгладимый — поэзия не захлестывает со всех сторон, а, напротив, углубляет, и всегда наперед, пробудившие ее обделенность и муку. И не ради ее триумфа, а ради их общего провала и плодоносного, следом за ним, разрыва делает поэт решительный шаг навстречу ее полной потере. Не в его власти присвоить это падение себе, он не вправе им ни завладеть, ни воспользоваться. Это просто дорожное происшествие, но с каждым разом оно обходится тяжелее. Поэт мелок, нищ, абсурден, как любой из людей. И все же его ярость, его слабость, его путаность могут преобразиться в работу стиха и этим коренным, не возвышающим, а сокрушительным переворотом восстановить хрупкое согласие, которое делает человека в его разорванности открытым, а мир для него — обитаемым.
* * *
Останавливаться, чтобы осмотреться, запрещено. Как будто приговорен видеть, только шагая. Только говоря. Видеть то, о чем говоришь, и говорить как раз потому, что не видишь. Давая видеть то, что́ не видишь, что́ запрещено видеть. И что́, по ходу, затрагивает и открывает речь. Слепота принуждает все поменять местами и оставлять след, ставить слово, раньше, чем останавливать взгляд. Шагать сквозь ночь, говорить сквозь гул, чтобы, откликнувшись шагу, проклюнулся первый луч дня и обозначил ветку, обрисовал плод.
* * *
Тебе не ускользнуть, говорит книга. Ты открываешь-закрываешь меня и думаешь, будто бы ты снаружи, но тебе не выйти, поскольку нет никакого внутри. Ускользнуть не в твоей воле, ведь западня открыта. Она — сама открытость. И неважно — одна, другая, третья. Или вот эта, невидимая, у тебя в изголовье, которая не дает бежать, действуя еще коварней.
Поглощенный чтением, пробитый белой молнией, ударяющей из облака букв, чтобы окончательно утвердить отсутствие реальности, ты приговорен скитаться между строк и, как в лабиринте, вдыхать свой собственный запах. Только буря, дойдя до края, откроет скалу, которой жаждет твой голод и страх, ее дробящую простоту рифа, замеченного слишком поздно. А пока здесь, готовое к кровопролитью, живо лишь то, что сбивает с пути и приковывает к месту, — этот холодный, безразличный, четвертующий, но никогда не доводящий до смерти разрыв, даже если ты порой даешь мне увидеть в нем, как обрушивается свет и поднимается ветер.
* * *
Беспрестанное, от первого до последнего, перетаскивание этих слов через буквы в попытке хоть на секунду увидеть воочию на гребне строки то, от чего уже ни следа. Видя, что слова движутся все лучше и до чего хрупка между ними связь, убеждаешь себя, будто сможешь довести дело до конца. Убеждаешь, будто в итоге нечто, созданное и порушенное разом, глянет в лицо смерти не твоими глазами. И покажет всю случайность, непреднамеренность, пустяковость твоего исчезновения. Так веселый луч расплескивается по стене, тут же теряющей тень и смысл.
Убираешь из этой невидимой, невероятной постройки все, что не ладит с ее природой, ее замыслом. Неспособный набросать ее чертеж и прикинуть высоту, размечаешь участок и ждешь, что написанное само подскажет план и ориентир, взвешиваешь, ощупываешь ближайшие камни, отбираешь одни и отбрасываешь другие с темным инстинктом опытного зверя, отталкивающего негодную пищу. И размечаешь свою малую делянку, пробуешь, суха ли ее подпочва.
Читать дальше