В большой пустой мастерской
на улице Малой Морской
у милого друга в гостях
я жил, а он второпях
отозван был в худсовет.
Я мрачно жевал обед.
Двенадцать оконных рам
с цветным стеклом пополам
смешивали свет дневной
над моей головой.
И был я тих, одинок,
и ни один звонок
не потревожил меня
до исхода дня.
Только безумный дождь
все шелестел, что хвощ,
и рисовал разрез
всех сорока небес.
То, расплывчато-ал,
переполнял бокал,
то, сиренево-хмур,
раскачивал абажур.
А я все глядел в окно,
и стало совсем темно,
и что-то плело наугад
дождика веретено.
Среди цветного стекла
выступила голова
размытая и сказала
неясные мне слова:
«Мы ждали тебя, дружок,
мы знали — ты будешь здесь.
Когда-нибудь весь кружок
увидишь, сейчас — не весь,
поскольку у нас дела
на разных концах небес».
И снова струя текла
и билась о мой навес.
Расплющенным серебром
дождь пасмурный колдовал:
«О чем вы, о чем, о чем,
о чем вы?» Но я-то знал,
что здесь накопился мрак,
что демоны всех мастей
в холстах и среди бумаг
подлавливают гостей.
Что в том вот темном углу
стоит антрацит-рояль.
Какую еще хулу,
какую еще деталь
извергнуть и описать?
Он сел, приодернул фрак…
Хочу вперед забежать,
но только не знаю — как.
Когда он уйдет к себе,
взлетит через сто стропил,
оставит очки в трубе,
помнет оперенье крыл,
я сразу узнаю, кто
такой он в жизни живой.
Но, как говорил Кокто:
«Размешивай все водой!»
Поскольку и кровь, и нефть,
и краска, и чистый спирт
явились на белый свет
не так, чтоб их просто пить.
А нужен должный раствор —
тогда и взалкают их!
Зачем я болтаю вздор?
Зачем пианист затих?
Квадратным своим лицом
на клавиши он упал,
стократно своим кольцом
по дереву он стучал.
Был это условный знак,
масонский, а может — нет.
И в худшей из передряг
бывают конец и свет.
Поскольку я подписал
все то, что он мне сказал,
и подпись горящей свечой
на воздухе начертал.
И вдруг проступил закат,
и кончился темный дождь,
и край небес свысока
явил багровую мощь.
И город мой просиял
последним ярким цветком.
Но это я прозевал,
поскольку заснул тайком.
Явился хозяин мой,
закончился худсовет,
и даже принес домой
румынский ром «Кабинет».
Мы выпили по сто грамм,
включили телеэкран,
со всех четырех программ
вопил Франсуа Легран.
Парижский простой певец,
он был такой молодец,
такой элегантный стервец,
такой талант, наконец.
За десять лет два раза — тот же день,
шестого мая, было воскресенье.
Медовая московская сирень,
лиловое густое сновиденье
мотались на углах. На телеграф
зачем-то шел я, стиснутый народом,
и вдруг нос к носу… И она, задрав
свой горборимский, ибо шла с уродом,
какой-то смесью чушки и хорька,
и потому особенно надменна.
Хотя нам было с ней наверняка
о чем поговорить. Одновременно
пролить слезу на теплый тротуар
шальной Москвы, пустой, как все столицы
в воскресный день. И ветер продувал
Тверскую и не мог угомониться.
Он нес пустые пачки «Мальборо́»,
сиреневые гроздья, чьи-то письма…
О жизнь, ты возникаешь набело,
как из души прорвавшаяся песня.
Ты возникаешь наугад, впотьмах,
где ищешь выключатели на ощупь.
Ну вот и окна вспыхнули в домах,
мы двинулись на Пушкинскую площадь.
Она была подругой двух друзей
в иных местах и временах… когда-то.
Ее белье пора продать в музей,
и, я ручаюсь, воздадут богато.
Все это было в лучшей из систем,
где ипокрена бьет на черном хлебе.
Зачем, я вопрошаю вас, зачем
и почему? И что всего нелепей —
остались оба, в общем, в дураках.
Не для того ль она, дохнув шампанским,
сирень перебирала на руках
здесь, на Тверской, с каким-то иностранцем?
Который, явно, был здесь не у дел,
на выставках чего-то там наладчик.
Из-за чего ж, дружок, ты погорел,
мой ученик, мой гениальный мальчик?
Из-за чего нешуточный свой дар
принес другой на сей алтарь грошовый?
И здесь уже кончался тротуар,
и начинать им не хотелось новый.
Я видел, как они вошли в такси,
и «Волга» побежала по бульварам.
Кончаю — ни смущенья, ни тоски,
ни ругани — и все-таки недаром…
Ведь что-то было. Что-то, хоть слеза,
хоть полсловечка, дырочка в перчатке.
Я повернул блудливые глаза —
из телеграфной двери, из тройчатки
процеживались словно в решето
пестрейшие приезжие пижоны,
и булькала толпа у ВТО,
синея в джинсовне на все фасоны.
Шестое мая — день известный встарь,
пятнадцать лет назад он много значил.
День ангела жены. Но календарь,
как водится, его переиначил.
Читать дальше

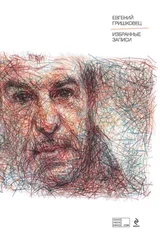

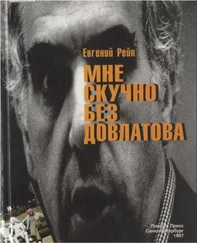
![Евгений Замятин - Избранное [сборник]](/books/432154/evgenij-zamyatin-izbrannoe-sbornik-thumb.webp)






