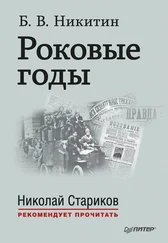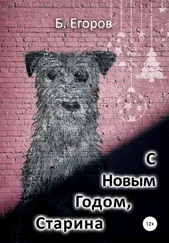Фет стремится передать читателю лирические переживания и настроения, не формулируя и не анализируя их, а заставив почувствовать их в эмоционально выразительных деталях описания природы, внешнего мира вообще.
Эту манеру современники единогласно возводят к Гейне, относят за счет его влияния на Фета, которое признавал и сам Фет. В своих воспоминаниях он говорит о сильнейшем своем увлечении Гейне в молодые годы: «Никто… не овладевал мною так сильно, как Гейне, своею манерой говорить не о влиянии одного предмета на другой, а только об этих предметах, вынуждая читателя самого чувствовать эти соотношения в общей картине, например, плачущей дочери покойного лесничего и свернувшейся у ног ее собаки» [14] А. Фет, Ранние годы моей жизни, М., 1893, с. 209. — Фет имеет в виду стихотворение Гейне «Die Nacht ist feucht und sturmisch…» («Сырая ночь и буря…») из раздела «Die Heimkehr» («Опять на родине»).
.
В сочинениях Белинского мы находим два кратких отзыва о поэзии Гейне. В 1838 году Белинский говорит, что лирические стихотворения Гейне «отличаются непередаваемою простотою содержания и прелестию художественной формы» (II, 504). В 1846 году он называет «довольно пустой пьесой» «Лорелею» Гейне и, приведя перевод стихотворения «Был старый король», спрашивает: «Что же дальше? — Ничего. Сам Гейне спрашивает: „докончить ли?“, чувствуя, что немного найдется охотников слушать такие пустяки» (IX, 587). По-разному оценивая поэзию Гейне в разные годы, Белинский отмечает в ней те же черты, которые современникам бросались в глаза в поэзии Фета: «простоту содержания» и обрывочность, фрагментарность.
Влияние Гейне на русскую поэзию 40-х годов вообще очень велико. Гейне оказал сильное воздействие на Огарева, Тургенева, Плещеева, Михайлова и других поэтов. Но, говоря о русских последователях Гейне, критики 40-х годов всегда первым называли Фета.
В те годы в России знают, переводят и ценят раннего Гейне, автора «Книги песен», воспринимают Гейне как интимного романтического лирика. Но и в 60-е годы, когда стихи Гейне стали известны в России уже в значительном объеме, Фета продолжают считать «подражателем и последователем» Гейне; так назвал его, в частности, Салтыков-Щедрин, добавивший, правда, что Фет связан с Гейне лишь как с поэтом «неопределенных мечтаний и неясных ощущений» [15] М. Е. Салтыков-Щедрин, Собр. соч., т. 5, М., 1966, с. 383.
.
Фет учится у Гейне создавать настроение подбором впечатляющих деталей, описанием природы, как бы откликающейся на настроение лирического героя, разделяющей его эмоции, так что лирическое чувство как бы разливается в мире, находит отклик во всей природе, одушевляя этот мир, «где воздух, свет и думы заодно», где
…в воздухе за песнью соловьиной
Разносится тревога и любовь.
О последнем двустишии Лев Толстой писал В. П. Боткину: «И откуда у этого добродушного толстого офицера берется такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов?» [16] Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 60, М., 1949, с. 207.
Эта свобода лирической деформации мира, манера одушевлять и преображать природу чувствами лирического героя, характерная для немецкой романтической поэзии, казались очень смелыми на русской почве.
Когда Фет в начале 40-х годов пишет:
То на небе, то в звонком саду
Билось сердце слышнее у ней
или
Люблю я химеры,
Где рдеет румяное детство, —
уже то изумление, а часто и негодование, с которым реагировала на подобные образы критика, показывает, что она столкнулась с непривычным методом художественной изобразительности.
Аполлон Григорьев в статье «Русская изящная литература в 1852 году» настойчиво сближает Фета с Гейне как основным представителем «болезненной», субъективной поэзии. Но любопытно, что «случайность» тем и переживаний, отрывочность их восприятия и воспроизведения дают основание Григорьеву сблизить эти тенденции с тенденциями «натуральной школы», очевидно проявляющимися в «физиологическом очерке» и произведениях, близких к нему по манере.
«При рассматривании общих физиологических признаков болезненной поэзии, — пишет Григорьев, — невольно приходит в голову сближение этой поэзии, в общих чертах ее и в миросозерцании, с тем, что мы в повествовательном роде называем натуральною школою; некоторое сходство та и другая представляют даже и в самой форме: как манера натуральной школы состоит в описывании частных, случайных подробностей действительности, в придаче всему случайному значения необходимого, так же точно и манера болезненной поэзии отличается отсутствием типичности и преобладанием особности и случайности в выражении…» Резко отрицательно относясь к «натуральной школе», Григорьев оговаривается, что «в лиризме такое миросозерцание и такая манера имеют некоторое оправдание, даже, пожалуй, свою прелесть; в совершенно же объективном роде творчества — они неуместны и оскорбительны» [17] А. Григорьев, Литературная критика, М., 1967, с. 98.
.
Читать дальше