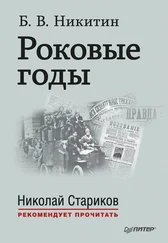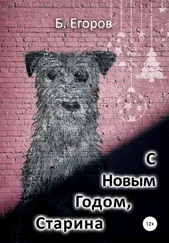Говоря в своих статьях начала 50-х годов о «болезненной» поэзии Гейне, Григорьев с осуждением относится к этому порождению «тревожного начала» европейского романтизма. Но в своих статьях Григорьев постоянно борется с собственными настроениями. Когда он приписывает Гейне «болезненное шутовство» как проявление «больного эгоизма», это перекликается с собственными лирическими излияниями Григорьева:
Он вас любил как эгоист больной,
И без надежд, и без желаний счастья;
К судьбе своей и к вашей без участья,
Он предавался силе роковой
и т. п.
Самые ранние известные нам стихи Григорьева — это четыре стихотворения 1842 года. Два из них — переводы из Гейне. Выбор их характерен. Это — «Они меня истерзали» и «Ядовиты мои песни».
Постоянная лихорадочная приподнятость настроения при сложности и путаности обуревающих поэта переживаний сказывается в лирической «невнятице» стиля поэзии Григорьева.
При единстве основного тона в стихах Григорьева 40-х годов отражаются его метания в поисках положительного мировоззрения, полосы различных идейных увлечений.
В творчестве Аполлона Григорьева 40-х годов наряду с лирикой «лишнего человека» есть и стихи с мистическим налетом и масонской символикой; есть и стихи, в которых сказывается влияние идей утопического социализма. Таковы стихотворения, в которых заглавия, эпиграфы, имена, даже псевдоним, под которым стихи печатались в журналах, — восходят к романам Жорж Санд, близким к идеям утопического социализма. В двух стихотворениях 1845–1846 годов под заглавием «Город» Григорьев, в соответствии с учением социалистов-утопистов, обличает неестественность, порочность и разврат большого города.
Сохранилось несколько стихотворений Григорьева, соприкасающихся с революционными настроениями и не предназначенных, разумеется, для печати. Каково было количество таких стихотворений, какова была интенсивность подобных настроений Григорьева — сказать трудно. К этим произведениям относится стихотворение «Когда колокола торжественно звучат…» с заключительным стихом: «Народной вольности завеет красный стяг», сонет «Нет, не рожден я биться лбом…» с заключительными строками:
И то, что чувствовал Марат,
Порой способен понимать я,
И будь сам бог аристократ.
Ему б я гордо пел проклятья…
Но на кресте распятый бог
Был сын толпы и демагог.
«Демагог» на языке того времени значило «демократ». Мы видим, что революционные настроения тесно соприкасались у Григорьева с идеями «христианского социализма». Вспомнив, что Жорж Санд представляла себе и изображала масонов как предшественников социализма, мы получим некоторую путеводную нить к характерному для А. Григорьева в середине 40-х годов странному скрещению революционных и социалистических идей с мистическими упованиями, масонскими увлечениями и с мотивами тоски и отчаяния «лишнего человека».
6
Известно, что Аполлон Григорьев был одно время близок с кругом петрашевцев. В этот круг входили люди неоднородных взглядов. Сам Петрашевский и его наиболее значительные сторонники были материалистами и атеистами, но были среди петрашевцев и люди, увлеченные идеями «христианского социализма». К ним относятся поэты-петрашевцы Плещеев, Дуров, Пальм. В их творчестве много общего с поэзией Аполлона Григорьева.
Образ лирического героя поэзии Плещеева — это трагический образ поэта, обреченного
…терзаться
И предрассудкам казнь в сомнениях искать, —
(«Дума»)
поэта, отказывающегося от счастья во имя правды и принимающего путь «гордого страданья»:
А там, дай руку — и с тобою
Мы гордо крест наш понесем,
И к небесам, в борьбе с судьбою,
Мольбы о счастье не пошлем.
(«Любовь певца»)
Ср. у Аполлона Григорьева:
Для себя мы не просим покоя
И не ждем ничего от судьбы,
И к небесному своду мы двое
Не пошлем бесполезной мольбы…
(«К Лавинии»)
Но сходные темы у Плещеева гораздо более определенно, чем у Аполлона Григорьева, окрашены социальной идеологией петрашевца. Стихи Плещеева явно конкретизируют тему «страдания» как страдания от сознания социальной несправедливости, от того, что «в ужасной наготе предстали» «бедствия страны родной» и «муки братьев», что поэт «услышал ближних вопль» и «увидел их мученья». И с этой темой связана тема «святого искупленья», грядущего «дня, когда ни горя, ни страданий не будет на земле».
Читать дальше