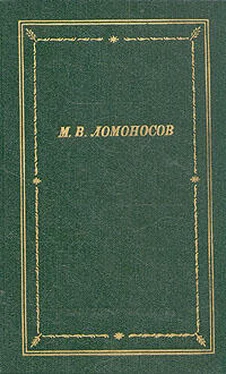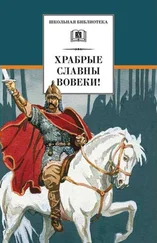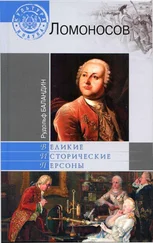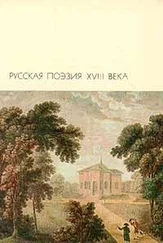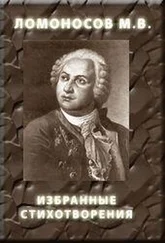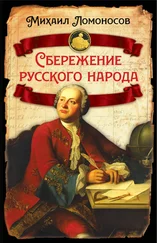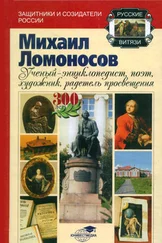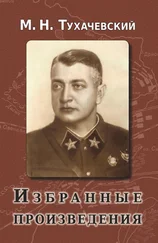(«Ода императрице Елисавете Петровне сентября 5 дня 1759 года»)
Одический стиль Ломоносова отличается интеллектуальным напряжением. Его вдохновение редко бывает непосредственным. Его поэтический «восторг» выражается, вернее имитируется, ухищрениями риторики, нарочитым нарушением строя и логических связей речи, перебоями, отступлениями, восклицаниями. Ломоносов часто изображает не предмет сам по себе, а чувственное ощущение от него. Таковы и его пронзительные эпитеты: «в жаждущих степях» (ода на взятие Хотина), «в средине жаждущего лета» (ода 1750 года), его неожиданные оксюмороны – метафоризирующне сочетания непосредственно непредставимых понятий, порождающие их новое поэтическое осмысление: «бодрая дремота», «громкая тишина».
Поэзия Ломоносова изобилует метафорами, опирающимися не только на неожиданное сопряжение «далековатых идей», но и на всю совокупность привходящих представлений и ассоциаций. Его метафора «брега Невы руками плещут», удаляясь от основного значения слова «рука», заставляет вспомнить и рукава реки, и толпы ликующего народа на берегах. Ломоносов считал подобное образование метафоры не только допустимым, но и образцовым, ибо дважды приводит ее в «Риторике» (§ 136 и 203).
Метафора Ломоносова нередко порождена всей совокупностью зрительных и слуховых представлений в их слитном единстве. Она одновременно чувственно-конкретна и умозрительна, постигаема чутким и взволнованным разумом:
От блеска твоея порфиры
Яснеет тон нижайшей лиры
(Рукописная «Риторика» 1744 года)
Или:
Молчите, пламенные звуки,
И колебать престаньте свет.
(«Ода на день восшествия на престол императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»)
Словесная живопись Ломоносова отвечает «бесконечной перспективе» барокко:
Вручает вечность мне свой ключ.
Отмкнулась дверь, поля открылись,
Пределов нет, где б те кончились…
(«Ода в торжественный праздник высокого рождения Иоанна Третиего 1741 года августа 12 дня»)
Пространство, уходя в бескрайность небес, «зыблется», находится в вечном движении –
Воззри в безмерный крут небес:
Он зыблется и помавает
И славу зреть твою желает
Светящих тьмами в ней очес…
(«Ода на прибытие из Голстинии и на день рождения великого князя Петра Феодоровича 1742 года февраля 10 дня»)
В одах Ломоносова на всем протяжении его творчества сохраняются привычные краски и приемы барочного декоративизма: потоки света в небесной лазури, сияние и блеск драгоценных камней, злата, бисера и кристаллов, сверкание фонтанов и каскады цветов. В оде 1746 года:
И се уже рукой багряной
Врата отверзла в мир заря,
От ризы сыплет свет румяной
В поля, в леса, во град, в моря.
В оде 1747 года:
Великое светило миру,
Блистая с вечной высоты
На бисер, злато и порфиру,
На все земные красоты…
Это не спокойный, озаряющий свет картин Ренессанса, а трепещущий, то вспыхивающий, то мерцающий свет барокко. В оде 1759 года несколько сдержаннее:
Щедрот источник, ангел мира,
Богиня радостных сердец,
На коей как заря порфира,
Как солнца тихих дней венец.
А в оде 1762 года (на восшествие на престол Петра Феодоровича):
Отв о ренный Елисавете
Ее преславных предков храм
Сияет в бесконечном свете
По звездным распростерт полям…
…Богиня новыми лучами
Красуется окружена
И звезды видит под ногами,
Светлее оных, как луна.
Ломоносов прекрасно создавал, что в его одах постоянно снуют одни и те же мотивы Он находит этому оправдание в их непрестанном обновлении:
Что часто солнечным сравняем
Тебя, монархиня, лучам;
От нужды дел не прибегаем
К одним толь многократ речам:
Когда мы начинаем слово,
Сияние в тебе зрим ново
И нову красоту доброт…
Искусство барокко состояло не столько в «изобретении» новых мотивов и метафор, сколько в их виртуозном варьировании. Поэзия уподобляется калейдоскопу, в котором горсточки цветных стеклышек, пересыпаясь, образуют множество «звездочек». Это относится и к «надписям на иллюминации», где сияют освещенные цветными огнями фейерверков транспаранты с постоянными мотивами щедрот монархини, ее побед и благостного мира:
Воюет воинство твое против войны,
Оружие твое Европе мир приводит.
(«Надпись на иллюминацию… в день тезоименитства ее величества 1748 года сентября 5 дня перед летним домом»)
Одические пейзажи Ломоносова живописны, порой прозрачны, но вместе с тем условны:
Читать дальше