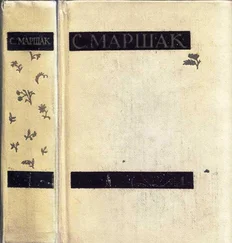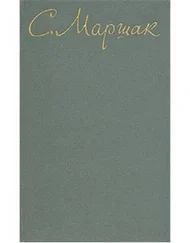Вот, наконец, неясной тенью
Мелькнула церковь в отдаленье.
Оттуда слышался, как зов,
Далекий хор чертей и сов.
Невдалеке — знакомый брод.
Когда-то здесь у этих вод
В глухую ночь на берегу
Торговец утонул в снегу.
Здесь, у прибрежных этих скал,
Пропойца голову сломал.
Там — под поникшею ракитой —
Младенец найден был зарытый.
А дальше — тот засохший дуб,
Где женщины качался труп…
Разбуженная непогодой,
Река во тьме катила воды.
Кругом гремел тяжелый гром,
Змеился молнии излом.
И невдали за перелеском,
Озарена туманным блеском,
Меж глухо стонущих ветвей
Открылась церковь Аллоуэй.
Неслись оттуда стоны, крики,
И свист, и визг, и хохот дикий.
Ах, Джон Ячменное Зерно!
В твоем огне закалено,
Оживлено твоею чашей,
Не знает страха сердце наше.
От кружки мы полезем в ад.
За чаркой нам сам черт не брат!
А Тэм О’Шентер был под мухой
И не боялся злого духа,
Но клячу сдвинуть он не мог,
Пока движеньем рук и ног,
Угрозой, ласкою и силой
Не сладил с чертовой кобылой.
Она, дрожа, пошла к вратам.
О боже! Что творилось там!..
Толпясь, как продавцы на рынке,
Под трубы, дудки и волынки
Водили адский хоровод
Колдуньи, ведьмы всех пород.
И не кадриль они плясали,
Не новомодный котильон,
Что привезли к нам из Версаля,
Не танцы нынешних времен,
А те затейливые танцы,
Что знали старые шотландцы:
Взлетали, топнув каблуком,
Вертелись по полу волчком.
На этом празднике полночном
На подоконнике восточном
Сидел с волынкой старый Ник
И выдувал бесовский джиг.
Все веселей внизу плясали.
И вдруг гроба, открывшись, встали,
И в каждом гробе был скелет
В истлевшем платье прошлых лет.
Все мертвецы держали свечи.
Один мертвец широкоплечий
Чуть звякнул кольцами оков.
И понял Тэм, кто он таков.
Тут были крошечные дети,
Что мало пожили на свете
И умерли, не крещены,
В чем нет, конечно, их вины…
Тут были воры и злодеи
В цепях, с веревкою на шее.
При них орудья грабежа:
Пять топоров и три ножа,
Одна подвязка, чье объятье
Прервало краткий век дитяти.
Один кинжал, хранивший след
Отцеубийства древних лет:
Навеки к острию кинжала
Седая прядь волос пристала…
Но тайну остальных улик
Не в силах рассказать язык.
Безмолвный Тэм глядел с кобылы
На этот сбор нечистой силы
В старинной церкви Аллоуэй.
Кружились ведьмы все быстрей,
Неслись вприпрыжку и вприскочку,
Гуськом, кружком и в одиночку,
То парами, то сбившись в кучу,
И пар стоял над ними тучей.
Потом разделись и в белье
Плясали на своем тряпье.
Будь эти пляшущие тетки
Румянощекие красотки,
И будь у теток на плечах
Взамен фланелевых рубах
Сорочки ткани белоснежной,
Стан обвивающие нежно, —
Клянусь, отдать я был бы рад
За их улыбку или взгляд
Не только сердце или душу,
Но и штаны свои из плюша,
Свои последние штаны,
Уже не первой новизны.
А эти ведьмы древних лет,
Свой обнажившие скелет,
Живые жерди и ходули
Во мне нутро перевернули!
Но Тэм нежданно разглядел
Среди толпы костлявых тел,
Обтянутых гусиной кожей,
Одну бабенку помоложе.
Как видно, на бесовский пляс
Она явилась в первый раз.
(Потом молва о ней гремела:
Она и скот губить умела,
И корабли пускать на дно,
И портить в колосе зерно!)
Она была в рубашке тонкой,
Которую еще девчонкой
Носила, и давно была
Рубашка ветхая мала.
Не знала бабушка седая,
Сорочку внучке покупая,
Что внучка в ней плясать пойдет
В пустынный храм среди болот,
Что бесноваться будет Нэнни
Среди чертей и привидений…
Но музу должен я прервать.
Ей эта песня не под стать,
Не передаст она, как ловко
Плясала верткая чертовка,
Как на кобыле бедный Тэм
Сидел недвижен, глух и нем,
А дьявол, потеряв рассудок,
Свирепо дул в десяток дудок.
Но вот прыжок, еще прыжок —
И удержаться Тэм не мог.
Он прохрипел, вздыхая тяжко:
«Ах ты, короткая рубашка!..»
И в тот же миг прервался пляс,
И замер крик, и свет погас…
Но только тронул Тэм поводья,
Завыло адское отродье…
Как мчится пчел гудящий рой,
Когда встревожен их покой,
Как носится пернатых стая,
От лап кошачьих улетая,
Иль как народ со всех дворов
Бежит на крик: «Держи воров!»
Читать дальше