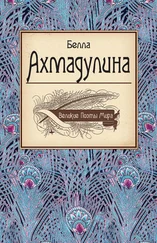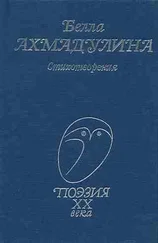Не будем звать, но сам придет сосед
для добрых восклицаний и бесед,
и голос сам заговорит стихами.
Я говорю себе: твой гость с тобою,
любуйся его милой худобою,
возьми себе, не отпускай домой.
Но уж звонит во мне звонок испуга:
опять нам долго не видать друг друга
в честь разницы меж летом и зимой.
Простились, ничего не говоря.
Я предалась заботам января,
вздохнув во сне легко и сокровенно.
И снова я тоскую поутру.
И в сад иду, и веточку беру,
и на снегу пишу я: Сакартвело.
«Претерпевая медленную юность,
впадаю я то в дерзость, то в угрюмость,
пишу стихи, мне говорят: порви!
А вы так просто говорите слово,
вас любит ямб, и жизнь к вам благосклонна»,
так написал мне мальчик из Перми.
В чужих потемках выключатель шаря,
хозяевам вслепую спать мешая,
о воздух спотыкаясь, как о пень,
стыдясь своей громоздкой неудачи,
над каждой книгой обмирая в плаче,
я вспомнила про мальчика и Пермь.
И впрямь — в Перми живет ребенок странный,
владеющий высокой и пространной,
невнятной речью. И, когда горит
огонь созвездий, принятых над Пермью,
озябшим горлом, не способным к пенью,
ребенок этот слово говорит.
Как говорит ребенок! Неужели
во мне иль в ком-то, в неживом ущельи
гортани, погруженной в темноту,
была такая чистая проема,
чтоб уместить, во всей красе объема,
всезначащего слова полноту?
О, нет, во мне — то всхлип, то хрип, и снова
насущный шум, занявший место слова
там, в легких, где теснятся дым и тень,
и шее не хватает мощи бычьей,
чтобы дыханья суетный обычай
вершить было не трудно и не лень.
Звук немоты, железный и корявый,
терзает горло ссадиной кровавой,
заговорю — и обагрю платок.
В безмолвии, как в землю погребенной,
мне странно знать, что есть в Перми ребенок,
который слово выговорить мог.
Кто же был так силен и умен?
Кто мой голос из горла увел?
Не умеет заплакать о нем
рана черная в горле моем.
Сколь достойны хвалы и любви,
март, простые деянья твои,
но мертвы моих слов соловьи
и теперь их сады — словари.
— О, воспой! — умоляют уста
снегопада, обрыва, куста.
Я кричу, но, как пар изо рта,
округлилась у губ немота.
Вдохновенье — чрезмерный, сплошной
вдох мгновенья душою немой.
Не спасет ее вдох иной,
кроме слова, что сказано мной.
Задыхаюсь, и дохну, и лгу,
что еще не останусь в долгу
пред красою деревьев в снегу,
о которой сказать не могу.
Облегчить переполненный пульс -
как угодно, нечаянно, пусть,
и во всё, что воспеть тороплюсь,
воплощусь навсегда, наизусть.
А за то, что была так нема,
и любила всех слов имена,
и устала вдруг, как умерла, -
сами, сами воспойте меня.
Что сделалось? Зачем я не могу,
уж целый год не знаю, не умею
слагать стихи, и только немоту
тяжелую в моих губах имею?
Вы скажете: но вот уже строфа,
четыре строчки в ней, она готова.
Я не о том: во мне уже стара
привычка ставить слово после слова.
Порядок этот ведает рука,
я не о том. Как это прежде было?
Когда происходило — не строка -
другое что-то. Только что? — забыла.
Да, то, другое, разве знало страх,
когда шалило голосом так смело,
само, как смех, смеялось на устах
и плакало, как плач, если хотело?
О Грузия, лишь по твоей вине,
Когда зима грозна и белоснежна,
Печаль моя печальна не вполне,
Не до конца надежда безнадежна.
Одну тебя я счастливо люблю,
И лишь твое лицо не лицемерно.
Рука твоя на голову мою
Ложится благосклонно и целебно.
Мне не застать врасплох твоей любви.
Открытыми объятия ты держишь.
Вое говоры, вое шепоты твои
Мне на ухо нашепчешь и утешишь.
Но в этот день не так я молода,
Чтоб выбирать меж севером и югом.
Свершилась поздней осени беда,
Былой уют украсив неуютом…
Лишь черный зонт в руках моих гремит,
Живой, упругий мускул в нем напрягся.
То, что тебя покинуть норовит,
Пускай покинет — что держать напрасно!
Я отпускаю зонт и не смотрю,
Как будет он использовать свободу.
Я медленно иду по октябрю,
Сквозь воду и холодную погоду.
В чужом дому, не знаю, почему,
Я бег моих колен остановила.
Вы пробовали жить в чужом дому?
Там хорошо. И вот как это было.
Был подвиг одиночества свершен,
И я могла уйти. Но так случилось,
Читать дальше