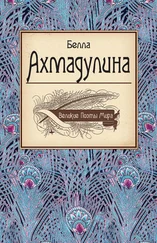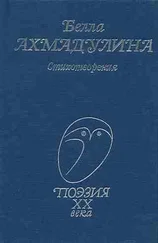семян их острых коготки.
И верю я одна на свете,
что зацветут его сады,
что странно засияют с веток
им совершенные плоды.
Он говорит: — Ты представляешь
быть может, через десять лет
ты вдруг письмо мне присылаешь,
а я пишу тебе в ответ…
Я представляю,
и деревья
я вижу — глаз не оторву.
Размеренные ударенья
тяжелых яблок о траву…
Он машет вилкою с селедкой,
глазами голодно блестит,
и персик, твердый и соленый,
на крепких челюстях хрустит…
О, слово точное — подонки!
Меж них такая кутерьма.
Темны их лица и подобны
одно другому.
Я сама
толкаюсь в их движенье тесном,
не в силах скрыться в стороне,
как бы измазанные тестом
их руки липнут и ко мне.
Все, что удобно и съедобно,
так безудержно их влечет.
Они ко мне добры сегодня
и обещают мне почет.
Но будут глухи их удары,
когда придет пора моя,
и, как надменные удавы,
они посмотрят на меня.
— Погибнет это дарованье! -
мне напророчат за глаза.
Неведомы и деревянны
их лики, словно образа.
Им предстоит удел обратный.
Он их настигнет все равно.
Но сколько предано объятий
и душ нестойких растлено!
Есть утешение скупое -
в их жизни, алчной и лихой,
они наказаны собою,
своей бездарностью глухой.
Человек в чисто поле выходит,
травку клевер зубами берет.
У него ничего не выходит.
Все выходит наоборот.
И в работе опять не выходит.
И в любви, как всегда, не везет.
Что же он в чисто поле выходит,
травку клевер зубами берет?
Для чего он лицо поднимает,
улыбается, в небо глядит?
Что он видит там, что понимает
и какая в нем дерзость гудит?
Человече, тесно ль тебе в поле?
Погоди, не спеши умереть.
Но опять он до звона, до боли
хочет в белое небо смотреть.
Есть на это разгадка простая.
Нас единой заботой свело.
Человечеству сроду пристало
делать дерзкое дело свое.
В нем согласье беды и таланта
и готовность опять и опять
эти древние муки Тантала
на большие плеча принимать.
В металлическом блеске конструкций,
в устремленном движенье винта
жажда вечная — неба коснуться,
эта тяжкая жажда видна.
Посреди именин, новоселий
нет удачи желанней, чем та
не уставшая от невезений,
воссиявшая правота.
Мороз, сиянье детских лиц,
и легче совладать с рассудком,
и зимний день — как белый лист,
еще не занятый рисунком.
Ждет заполненья пустота,
и мы ей сделаем подарок:
простор листа, простор холста
мы не оставим без помарок.
Как это делает дитя,
когда из снега бабу лепит, -
творить легко, творить шутя,
впадая в этот детский лепет.
И, слава Богу, все стоит
тот дом среди деревьев дачных,
и моложав еще старик,
объявленный как неудачник.
Вот он выходит на крыльцо,
и от мороза голос сипнет,
и галка, отряхнув крыло,
ему на шапку снегом сыплет.
И, стало быть, недорешен
удел, назначенный молвою,
и снова, словно дирижер,
он не робеет стать спиною,
спиною к нам, лицом туда,
где звуки ждут его намека,
и в этом первом «та-та-та»
как будто бы труда немного.
Но мы-то знаем, как велик
труд, не снискавший одобренья.
О зимний день, зачем велишь
работать так, до одуренья?
Позволь оставить этот труд
и бедной славой утешаться.
Но — снег из туч! Но — дым из труб!
И невозможно удержаться.
Что так Снегурочку тянуло
к тому высокому огню?
Уж лучше б в речке утонула,
попала под ноги коню.
Но голубым своим подолом
вспорхнула — ноженьки видны -
и нет ее, она подобна
глотку оттаявшей воды.
Как чисто с воздухом смешалась
и кончилась ее пора.
Играть с огнем — вот наша шалость,
вот наша древняя игра.
Нас цвет оранжевый так тянет,
так нам проходу не дает.
Ему поддавшись, тело тает
и телом быть перестает.
Но пуще мы огонь раскурим
и вовлечем его в игру,
и снова мы собой рискуем
и доверяемся костру.
Вот наш удел еще невидим,
в дыму еще неразличим.
То ль из него живые выйдем,
то ль навсегда сольемся с ним.
Живут на улице Песчаной
два человека дорогих.
Я не о них.
Я о печальной
неведомой собаке их.
Эта японская порода
ей так расставила зрачки,
что даже страшно у порога -
как их раздумья глубоки.
То добрый пес. Но, замирая
и победительно сопя,
надменным взглядом самурая
Читать дальше