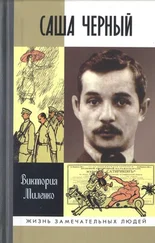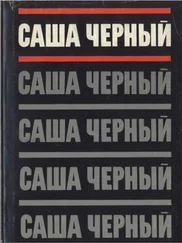На диване два поэта,
Как беспечные кентавры,
Хохотали до упаду
Над какой-то ерундой…
Почтальон стоял у стойки
И посматривал тревожно
На огромные плакаты
С толстым дьяволом внутри [214].
Тихий крохотный издатель [215]
Деликатного сложенья
Пробегал из кабинета,
Как испуганная мышь.
Кто-то в ванной лаял басом,
Кто-то резвыми ногами
За издателем помчался,
Чтоб аванс с него сорвать…
А в сторонке в кабинете
Грузный медленный Аркадий,
Наклонясь над грудой писем,
Почту свежую вскрывал:
Сотни диких графоманов
Изо всех уездных щелей
Насылали горы хлама —
Хлама в прозе и в стихах.
Ну и чушь! В зрачках хохлацких
Искры хитрые дрожали:
В первом ящике почтовом [216]
Вздернет на кол – и аминь!
Четким почерком кудрявым
Плел он вязь, глаза прищурив,
И сифон с водой шипучей,
Чертыхаясь, осушал.
Ровно в полдень встанет. Баста!
Сатирическая банда,
Гулко топая ногами,
Вдоль Фонтанки шла за ним
К Чернышеву переулку [217]…
Там в гостинице «Московской»
Можно вдосталь съесть и выпить,
Можно всласть похохотать.
Хвост прохожих возле сквера
Оборачивался в страхе,
Дети, бросив свой песочек,
В рот пихали кулачки:
Кто такие? Что за хохот?
Что за странные манеры?
Мексиканские ковбои?
Укротители зверей?..
А под аркой министерства
Околоточный знакомый,
Добродушно ухмыляясь,
К козырьку взносил ладонь:
«Как, Аркадий Тимофеич,
Драгоценное здоровье?»
– «Ничего, живем – не тужим…
До ста лет решил скрипеть!»
До ста лет, чудак, не дожил…
Разве мог он знать и чуять,
Что за молодостью дерзкой,
Словно бесы, налетят
Годы красного разгула,
Годы горького скитанья,
Засыпающие пеплом
Все веселые глаза…
1925
Из мглы всплывает ярко
Далекая весна:
Тишь гатчинского парка
И домик Куприна.
Пасхальная неделя —
Беспечных дней кольцо,
Зеленый пух апреля,
Скрипучее крыльцо…
Нас встретил дом уютом
Веселых голосов
И пушечным салютом
Двух сенбернарских псов.
Хозяин в тюбетейке,
Приземистый как дуб,
Подводит нас к индейке,
Склонивши набок чуб…
Он сам похож на гостя
В своем жилье простом…
Какой-то дядя Костя
Бьет в клавиши перстом…
Поют нескладным хором, —
О, ты, родной козел!
Весенним разговором
Жужжит просторный стол.
На гиацинтах алых
Морозно-хрупкий мат.
В узорчатых бокалах
Оранжевый мускат.
Ковер узором блеклым
Покрыл бугром тахту,
В окне – прильни-ка к стеклам —
Черемуха в цвету!
Вдруг пыль из подворотни,
Скрип петель в тишине, —
Казак уральской сотни
Въезжает на коне.
Ни на кого не глядя,
У темного ствола
Огромный черный дядя
Слетел пером с седла.
Хозяин дробным шагом
С крыльца, пыхтя, спешит.
Порывистым зигзагом
Взметнулась чернь копыт…
Сухой и горбоносый,
Хорош казачий конь!
Зрачки чуть-чуть раскосы, —
Не подходи! Не тронь!
Чужак погладил темя,
Пощекотал чело
И вдруг, привстав на стремя,
Упруго влип в седло…
Всем телом навалился,
Поводья в горсть собрал, —
Конь буйным чертом взвился,
Да, видно, опоздал!
Не рысь, а сарабанда [220]…
А гости из окна
Хвалили дружной бандой
Посадку Куприна…
Вспотел и конь, и всадник.
Мы сели вновь за стол…
Махинище-урядник
С хозяином вошел.
Копна прически львиной,
И бородище – вал.
Перекрестился чинно,
Хозяйке руку дал…
Средь нас он был как дома,
Спокоен, прост и мил.
Стакан огромный рома
Степенно осушил.
Срок вышел. Дома краше…
Через четыре дня
Он уезжал к папаше
И продавал коня.
«Цена… ужо успеем».
Погладил свой лампас,
А чуб цыганский змеем
Чернел до самых глаз.
Два сенбернарских чада
У шашки встали в ряд:
Как будто к ним из сада
Пришел их старший брат…
Хозяин, глянув зорко,
Поглаживал кадык.
Вдали из-за пригорка
Вдруг пискнул паровик.
Мы пели… Что? Не помню.
Но так рычит утес,
Когда в каменоломню
Сорвется под откос…
Март 1926
Париж
Кто любит прачку, кто любит маркизу,
У каждого свой дурман, —
А я люблю консьержкину Лизу,
У нас – осенний роман.
Пусть Лиза в квартале слывет недотрогой, —
Смешна любовь напоказ!
Но всё ж тайком от матери строгой
Она прибегает не раз.
Читать дальше