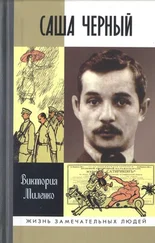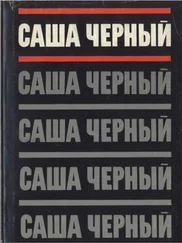<1910>
На дачной скрипучей веранде
Весь вечер царит оживленье.
К глазастой художнице Ванде
Случайно сползлись в воскресенье
Провизор, курсистка, певица,
Писатель, дантист и девица.
«Хотите вина иль печенья?» —
Спросила писателя Ванда,
Подумав в жестоком смущенье:
«Налезла огромная банда!
Пожалуй, на столько баранов
Не хватит ножей и стаканов».
Курсистка упорно жевала.
Косясь на остатки от торта,
Решила спокойно и вяло:
«Буржуйка последнего сорта».
Девица с азартом макаки
Смотрела писателю в баки.
Писатель, за дверью на полке
Не видя своих сочинений,
Подумал привычно и колко:
«Отсталость!» И стал в отдаленье,
Засунувши гордые руки
В триковые стильные брюки.
Провизор, влюбленный и потный,
Исследовал шею хозяйки,
Мечтая в истоме дремотной:
«Ей-богу, совсем как из лайки!..
О, если б немножко потрогать!»
И вилкою чистил свой ноготь.
Певица пускала рулады
Всё реже, и реже, и реже.
Потом, покраснев от досады,
Замолкла: «Не просят! Невежи…
Мещане без вкуса и чувства!
Для них ли святое искусство?»
Наелись. Спустились с веранды
К измученной пыльной сирени.
В глазах умирающей Ванды
Любезность, тоска и презренье:
«Свести их к пруду иль в беседку?
Спустить ли с веревки Валетку?»
Уселись под старой сосною.
Писатель сказал: «Как в романе…»
Девица вильнула спиною,
Провизор порылся в кармане
И чиркнул над кислой певичкой
Бенгальскою красною спичкой.
<1910>
«Смех сквозь слезы» [79]
(1809–1909)
Ах, милый Николай Васильич Гоголь!
Когда б сейчас из гроба встать ты мог,
Любой прыщавый декадентский щеголь
Сказал бы: «Э, какой он, к черту, бог?
Знал быт, владел пером, страдал. Какая редкость!
А стиль, напевность, а прозрения печать,
А темно-звонких слов изысканная меткость?..
Нет, старичок… Ложитесь в гроб опять!»
Есть между ними, правда, и такие,
Что дерзко от тебя ведут свой тусклый род
И, лицемерно пред тобой согнувши выи,
Мечтают сладенько: «Придет и мой черед!»
Но от таких «своих», дешевых и развязных,
Удрал бы ты, как Подколесин, чрез окно… [80]
Царят! Бог их прости, больных, пустых и грязных,
А нам они наскучили давно.
Пусть их шумят… Но где твои герои?
Все живы ли, иль, небо прокоптив,
В углах медвежьих сгнили на покое
Под сенью благостной крестьянских тучных нив?
Живут… И как живут! Ты, встав сейчас из гроба,
Ни одного из них, наверно б, не узнал:
Павлуша Чичиков – сановная особа
И в интендантстве патриотом стал, —
На мертвых душ портянки поставляет
(Живым они, пожалуй, ни к чему),
Манилов в Третьей Думе [81]заседает
И в председатели был избран… по уму [82].
Петрушка сдуру сделался поэтом
И что-то мажет в «Золотом руне» [83],
Ноздрев пошел в охранное [84]– и в этом
Нашел свое призвание вполне.
Поручик Пирогов с успехом служит в Ялте [85]
И сам сапожников по праздникам сечет,
Чуб [86]стал союзником и об еврейском гвалте
С большою эрудицией поет.
Жан Хлестаков работает в «России» [87],
Затем – в «Осведомительном бюро» [88],
Где чувствует себя совсем в родной стихии:
Разжился, раздобрел, – вот борзое перо!..
Одни лишь черти, Вий [89]да ведьмы и русалки.
Попавши в плен к писателям modernes,
Зачахли, выдохлись и стали страшно жалки,
Истасканные блудом мелких скверн…
Ах, милый Николай Васильич Гоголь!
Как хорошо, что ты не можешь встать…
Но мы живем! Боюсь – не слишком много ль
Нам надо слышать, видеть и молчать?
И в праздник твой, в твой праздник благородный,
С глубокой горечью хочу тебе сказать:
«Ты был для нас источник многоводный,
И мы к тебе пришли теперь опять, —
Но «смех сквозь слезы» радостью усталой
Не зазвенит твоим струнам в ответ…
Увы, увы… Слез более не стало,
И смеха нет».
1909
Стилизованный осел [90]
Ария для безголосых
Голова моя – темный фонарь с перебитыми
стеклами,
С четырех сторон открытый враждебным ветрам.
По ночам я шатаюсь с распутными пьяными
Феклами,
По утрам я хожу к докторам.
Тарарам.
Я волдырь на сиденье прекрасной российской
словесности,
Разрази меня гром на четыреста восемь частей!
Оголюсь и добьюсь скандалезно-всемирной известности,
И усядусь, как нищий-слепец, на распутье путей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу