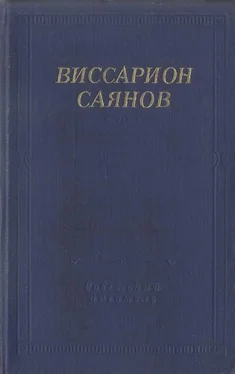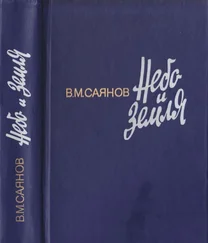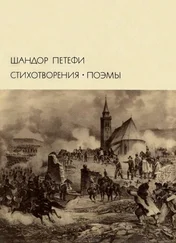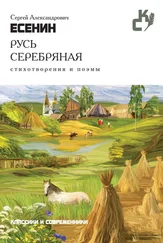Следует отметить и то, что недостатки, широко распространенные в литературе тех лет, когда в нее широким потоком входили риторика, выспренность, парадность, поверхностность в описании великих дел наших людей, сказались и на иных стихах В. Саянова. Так, в цикле «Онего» (1948) живое, полнокровное, взволнованное чувство, вызванное творческим подвигом нашего человека, нередко подменялось сугубо внешними приметами строительства, хроникерской их регистрацией:
В полярной бухте дом жилой,
Движок гудит, не умолкая,
Качаясь в лад волне морской…
Здесь будет центр большого края.
Давно ли стройка начата,
А уж встают над бухтой зданья!..
и т. д.
Конечно, такого рода внешне описательные и риторически звучащие стихи вряд ли могут захватить читателя. Нельзя отнести к числу удачных произведений и поэму В. Саянова «Свет над полями» (1952), в которой большая тема преображения страны — в согласии с ленинскими планами электрификации России — не получила углубленного и самобытного решения. Но нельзя забывать и о том, что таких произведений в творчестве В. Саянова не много — и не они определяют его характер, его наиболее существенные черты.
На протяжении многих лет, с 1927 года и до последних дней своей жизни, В. Саянов работал над романом в стихах «Колобовы». Роман этот, написанный четырехстопным ямбом (и вообще близкий по характеру стиха духу и канонам уже сложившейся традиции), охватывает большой период истории нашей страны — от самого рубежа XX века и вплоть до событий гражданской войны (а если включить сюда и эпилог, то еще дальше, до наших дней); здесь поэт (следуя за Блоком — автором «Возмездия») хотел воссоздать
…часть истории России
В истории одной семьи.
В «Колобовых» В. Саянов стремился нащупать новые пути своей поэзии, сочетать историзм и монументальность изображения с картинами сугубо житейского плана, с семейно-бытовой обстановкой, с психологически развернутыми характеристиками множества персонажей, с подробно и сложно построенным сюжетом, связанным и с историей одной семьи, и с переломными событиями истории нашей родины. Но, вступая на эту, новую для него, почву, поэт не сумел полностью воплотить захвативший его замысел и далеко не во всем справился с большой задачей, поставленной им перед собой. Тут — наряду со страницами, лирически взволнованными, ярко написанными, отличающимися меткостью образа и точностью рисунка — немало и таких страниц, где изображение становится беглым и схематичным; многое решено здесь неточно, приблизительно, без достаточной степени проникновения в характер персонажей, в связи с чем сюжет лишается естественности в своем развитии, да и самый стих звучит подчас принужденно, недостаточно выразительно, а то и напоминает широко известные строки классиков прошлого, словно бы имитирует их. Все это и не позволяет отнести «Колобовых» к художественно завершенным произведениям.
Свидетельством нового творческого подъема В. Саянова явилась последняя — из вышедших при жизни поэта — книга его стихов «Голос молодости» (1958). Ее автор словно бы возвращается к давним годам своей юности — и многое здесь звучит перекличкой с ней, новым ее осмыслением в свете большого жизненного опыта, тех забот, тревог, испытаний, которые выпали на долю поэта и всех его сверстников и современников, лишенных былой задорности и восторженности, — слишком трудна и тяжела оказалась жизнь этого поколения, слишком большие испытания выпали на его долю!
В стихотворении, открывающем книгу, поэт обращается к большому и трудному опыту сверстников, подводя итог и своей жизни и жизни своих героев, которым он, начиная творческий путь, посвятил столько пылких и взволнованных стихов:
Что сказать? Мы очень трудно жили,
Сил своих совсем не берегли,
Мы порой без спросу в дом входили,
Кой-где двери кулаком открыли,
Кой-где, может, невзначай прошли
Мимо счастья тихого и мимо
Ждавшей нас сердечной теплоты…
Но поэт знает и утверждает: большие испытания, выпавшие на долю наших людей и неизбежные в любом большом деле, во многом оправданы — и вспоминает о них с тем, чтобы еще и еще раз отстоять правоту и неизбежность избранного им — и его поколением — трудного и неизведанного пути.
Чувство непреходящей и не подвластной разочарованиям и унынию молодости возникло у поэта не случайно — оно было порождено ощущением того, что он не изменил, да и не мог изменить мечтам своей юности, сквозь всю свою жизнь пронес те идеалы, которые отстаивал в самых суровых испытаниях, в самой напряженной борьбе. Вот почему поэту не изменил «голос молодости», и так же, как встарь, он «верен боям и походам» как самому обычному для него делу — и этот боевой задор придает ощущение неизбывной юности самому поэту и героям его лирики.
Читать дальше