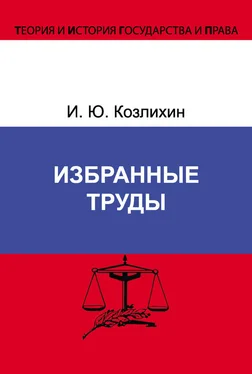Фуллер различает подразумеваемое, имплицитное право (implicit law) и созданное право (made law). [105] Fuller L. American Legal Philosophy // Journal of Legal Education. 1954. N 6. P. 405.
Имплицитное право включает обычаи и другие способы нормативной регуляции человеческих отношений, часто не имеющие вербального выражения. Созданное право состоит из внешне выраженных точных правил. Оно содержит статуты, нормы контрактов и т. д. Статуты создаются исключительно государственными органами, а нормы контрактов – государственными и негосударственными органами, а также частными лицами. И имплицитное и эксплицитное право целеположено, ибо сущностное значение правовой нормы лежит в цели или в совокупности целей. [106] Ibid.
При толковании и последующем применении нормы права следует учитывать ту цель, которая сущностна для нее. Поэтому право как сущее неотторжимо от права как должного. Здесь, пожалуй, проходит линия, отделяющая Фуллера от позитивизма (объявляющего правом все нормы, исходящие от государства) и от нормативизма (предлагающего некую основную норму в качестве критерия права), и от социологии права (понимающей правовую норму как предсказание об использовании государственного принуждения). По мнению Фуллера, все эти подходы игнорируют цель в праве.
Не только отдельные нормы права, но и целые отрасли имеют определенные цели. Так, цель конституционного права заключается в воплощении и применении основных организационных принципов государства: это общедемократические принципы, способы борьбы против злоупотребления властью, принципы правления права, требования должной процедуры. Конституционное право создает общие возможности для нормального функционирования всех остальных отраслей права. Кроме того, оно определяет цели, которые могут достигаться посредством права. Поэтому конституционное право рассматривается им как базисная отрасль, без осознания принципов которой вообще невозможно понимание сути права. В конституционном праве задаются глобальные цели всей правовой системы. [107] Ibid. P. 462–467.
Вместе с тем не любая норма, в том числе и конституционного права, может быть отнесена к собственно правовой.
Фуллер различает факты и артефакты. Факты существуют независимо от желания человека видеть их такими или другими. Артефакты же создаются человеком с вполне определенной целью, поэтому в них сущее и должное сливаются как элементы одной «интегральной реальности». Правовая норма, естественно, артефакт. Поэтому, чтобы ответить на вопрос, является ли данная норма правовой, надо знать, какой она должна быть. Далеко не все, что исходит от законодателей, может считаться правом. Чтобы определить, является ли норма, созданная законодателем, правовой, следует определить, во-первых, предлагает ли она соответствующие средства для достижения этой цели. В случае отрицательного ответа норма права – мнимая. Наличие цели придает ценность и всей правовой системе, которая определяется Фуллером как целеположенная человеческая деятельность, направляемая и контролируемая общими правилами. [108] Fuller L. The Morality of Law. New Haven, 1969. P. 109.
Итак, направлять и контролировать человеческую деятельность – это генеральная цель правовой системы. Влияние инструментализма здесь несомненно. Но при этом Фуллер формулирует и другие, более конкретные, частные цели. Он называет их процессуальными, или процедурными, и полагает, что без их реализации правовая система не может существовать и достигать своей генеральной цели. Все разновидности норм «сделанного» права должны отвечать следующим требованиям: носить общий характер, быть обнародованными, не иметь обратной силы, быть ясными и свободными от противоречий, достаточно стабильными, не требовать невозможного, и реализация их должна соответствовать содержанию, т. е. целям и средствам, заложенным в данной норме.
По сути дела, все это требования инструментальной концепции правления права. В отличие от Раза и других инструменталистов, Фуллер полагает, что эти процедурные цели-принципы выполняют роль ограничителя по отношению к социальным, политическим целям, которые государство может достигать с помощью закона. Например, опубликование закона заставляет само государство следовать ему, таким образом, закон становится обязательным и по отношению к государственным органам. Процедурные принципы имеют отношение ко всей правовой системе, их реализация достигается в деятельности законодателей, судей, административных и управленческих органов, тем не менее они не в полной мере затрагивают такие формы права, как обычай, административный акт, нормы контрактного права. Но в целом правовая система этим принципам должна соответствовать, тогда создается режим «процедурной законности». Если система не отвечает ее требованиям, то можно утверждать, что общество имеет какую-то систему правления (государство), но это не будет система, основанная на праве и функционирующая в соответствии с правом. [109] Ibid. P. 122–123.
Норма права, статутного прежде всего, согласно Фуллеру, не может являться способом осуществления политической власти. Правовая норма как сочетание должной цели и должных средств представляет собой моральную ценность. При этом у Фуллера мораль приобретает специфически юридический характер, он не считает, что «моральная норма» права в любом случае будет служить благим целям. Но нельзя с ним не согласиться в том, что если мы что-либо будем делать правильным способом, то, вероятнее всего, получим и правильный результат. Например, чтобы быть эффективным, закон должен быть ясно изложен и промульгирован. Это требования инструментальной эффективности, но следование им с наибольшей вероятностью будет порождать хорошее статутное право потому, что законодатель не склонен излагать порочное право в ясных терминах и промульгировать его. [110] Ibid P. 157–159.
Кроме того, каждая форма права имеет свои дополнительные критерии, например норма контрактного права должна тестироваться на «добросовестность» сторон, обычай – на разумность, статут – на субстанциональную справедливость. Эти критерии также моральны, поскольку они определяют то, что должно быть (ибо моральное – это и есть должное). Тот факт, что норма заключает в себе интеллигибельную цель и инструментальна, еще не означает, что она пройдет дальнейшее тестирование. Короче говоря, право и мораль неразделимы, как неразделимо сущее и должное. Поэтому Фуллер не согласен с Хартом, утверждавшим, что «нет необходимой связи между правом, как оно есть, и правом, каким оно должно быть». [111] Hart H. L. A. Positivism and the Separation of Law and Morals. P. 607.
Читать дальше