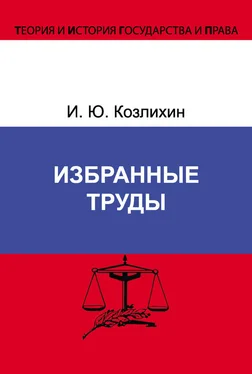Но инструменталистские концепции права отнюдь не всегда приводят к такого рода заключениям, для этого необходимы соответствующие социально-экономические и политические условия, а именно: сужение сферы правового регулирования до такой степени, чтобы правовая норма могла ассоциироваться почти исключительно с запрещающим уголовным законом или с иного рода велением властей, снабженными карательной санкцией. Но в целом Фома Аквинский точно отразил состояние права, по крайней мере, в континентальной Европе к середине XIII в., когда позитивный закон не играл и не мог играть роль главного регулятора отношений как в частной, так и особенно в публичной сфере. Поэтому проблема свободы видится Фомой Аквинским как проблема чисто теологическая, а не социальная. Свободные люди, т. е. люди, сознательно реализующие свое естественное стремление к добру, к Богу, в законе не нуждаются. [14] См.: Тертых В. Свобода и моральный закону Фомы Аквинског о//Вопросы философии. 1994. N1. С. 87–101.
Основной конфликт средневековья состоял в конфликте не между властью и правом, а между клерикальной и светской властями. Концепция правления права как права позитивного не могла быть обоснована в рамках инструментально-теологической концепции естественного права. Она ориентировалась на феодальные порядки, и в ней нашел отражение основной конфликт эпохи между монархами и папством, между нарождающимся государственным суверенитетом и суверенитетом церкви.
Политические отношения, политическая власть являлись производными от права на землю и поэтому выступали в качестве частного права: политические отношения между сюзеренами и вассалами строились по аналогии с договорными, контрактными отношениями. И, кстати говоря, эта традиция сыграла значительную роль в становлении западноевропейской политико-правовой культуры, привнося представления о необходимости фиксации прав и обязанностей в сфере отношений власти и подчинения. Вместе с тем феодальный порядок рассматривался томизмом как выражение божьей воли, в силу чего концепция естественного права коррелировалась с более широкими философско-религиозными представлениями о вечности и неизменности божественного порядка и могла «работать» лишь как элемент этих представлений. Поэтому ослабление политической власти пап и постепенная десакрализация социальной жизни автоматически приводили к кризису томистской концепции естественного права. Во-первых, она препятствовала обоснованию суверенности складывающихся национальных государств, во-вторых, апелляция к естественному праву оказывалась явно недостаточной для обеспечения функционирования государственных институтов. Показательно, что в Великой Хартии Вольностей и аналогичных политико-правовых актах континентальной Европы (германская Золотая Булла, венгерская Золотая Булла, Великий Мартовский Ордонанс) естественно-правовая аргументация практически отсутствует.
С развитием государственного суверенитета, усложнением структуры государства все большие надежды возлагаются на позитивный закон. Законотворческая деятельность государств в лице монархов и сословных органов расширяется, в связи с этим выдвигается политическое требование подчиненности закону и самого монарха. Сказанное не означает, что естественно-правовая аргументация полностью утрачивает свою актуальность: происходит не отказ от теории естественного права, а ее десакрализация. Нормы естественного права начинают проявлять себя не в системе отношений светская – клерикальная власть, а в отношении народ – правители, независимо от того, какая именно социальная группа понималась под народом. Естественно-правовая аргументация не просто сохраняется, например у Ж. Бодена и особенно у Г. Гроция, она органично входит в их правопонимание: государство создается ради обеспечения норм естественного права. Но все же и у Бодена и у Гроция ведущей является не концепция естественного права, а концепция государственного суверенитета. Нормы естественного права по отношению к монаршей воле в практически-политическом плане играли роль не более чем суррогата сословно-представительных органов в условиях складывающегося государственного абсолютизма. Обращенный к монархам призыв соблюдать нормы естественного права, перечень которых по определению не может быть очень широким, носит характер скорее пожелания, нежели требования.
Судьба естественно-правовой концепции такова, что она начинает доминировать в сознании либо в случае неразвитости системы позитивного права (например, в эпоху раннего средневековья), либо в переходные периоды в истории того или иного общества, когда естественно-правовая аргументация приобретает характер политических требований, обращенных к государству. Ведь естественное право как совокупность норм, выражающих справедливость и не связанных с волей государства, которые призваны модифицировать, корректировать, направлять деятельность государства, само по себе имеет ярко выраженную политическую направленность, а содержание его может варьироваться в очень широких пределах. Не случайно концепция правления закона была выработана Аристотелем не в противопоставлении «естественного» и «позитивного», а в единстве того и другого, т. е. в единстве сущности и формы.
Читать дальше