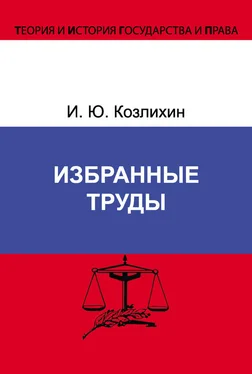Таким образом, у Аристотеля не любая правильная форма правления основывается на принципе правления законов, а наилучшая – полития – там властвует закон, а не страсти. Вместе с тем следует помнить, что в «Политике» анализируются те законы, которые имеют отношение к организации власти в полисе, т. е. к сфере распределяющей, а не уравнивающей, спра ведливости. Аристотель стремится исключить, насколько это вообще возможно, «страсти» из отношений властвования и под чинения, т. е. из политической сферы. Ведь именно эта сфера наиболее подвержена страстям человеческим, человеческой субъективности, поскольку критерий справедливости (распределение по достоинству) привносится извне, а не содержится в самом отношении власти – подчинения (как происходит в отношениях обмена). Кажется, что Аристотель стремится подвести под единый принцип право-справедливость, действующее в сфере обменных отношений, подчинить политику праву: «…ясно, что ищущий справедливости ищет чего-то беспристрастного, а закон и есть это беспристрастное» (Политика, 1287 в 5). И «каждое должностное лицо, воспитанное в духе закона, будет судить правильно» (Политика, 1287 в 26). Принцип правления законов, а не людей, означает распространение действия права на политическую сферу, означает необходимость ее упорядоченности и предсказуемости, исключения произвола из отношений власти и подчинения. «Итак, кто требует, чтобы властвовал закон, по-видимому, требует, чтобы властвовало только божество и разум, а кто требует, чтобы властвовал человек, привносит в это и животное начало, ибо страсть есть нечто животное, и гнев совращает с истинного пути правителей, хотя бы они и были наилучшими людьми; напротив, закон – свободный от безотчетных порывов разум» (Политика, 1287 а 30). Здесь правление закона характеризуется как правление разума. Однако, в отличие от Платона, он находит «разум» в самом человеке, а не вне его. Иными словами, Аристотель анализирует свойства права как такового, закон для него не является инструментом для достижения какой-либо цели; правовой закон ценен сам по себе как условие благой жизни, жизни разумной. Правление закона, а не людей, предполагает реализацию имманентных праву качеств – всеобщности, абстрактности, беспристрастности, стабильности, что, в свою очередь, приводит к упорядоченности полисной жизни.
Исследуя закономерности становления концепции правления права, нельзя обойти вниманием Марка Туллия Цицерона. Он нередко упоминается как мыслитель, стоявший у истоков концепции правового государства. [10] См.: Нерсесянц В С. Право и закон. М., 1983. С. 145.
«Государство есть достояние народа, а народ не любое соединение людей, связанных между собою согласием в вопросах права и общности интересов» (О государстве, I, XX). Эта мысль Цицерона, как правило, приводится в качестве доказательства его «первенства». Однако все же это не более чем парафраз его греческих предшественников. Кажется, что с точки зрения углубления понимания сути права более оригинальна другая его мысль: «…если закон есть связующее звено гражданского общества, а право, установленное законом, обязательно для всех, то на каком праве может держаться общество граждан, когда их положение не одинаково? И в самом деле, если люди не согласны уравнять имущество, если умы всех людей не могут быть одинаковы, то, во всяком случае, права граждан одного и того же государства должны быть одинаковы. Да что такое государство, как не общий правопорядок?» (О государстве, I, XXXII). Разумеется, и в этом утверждении нет ничего абсолютно нового для античного мира. Однако такое качество закона, правовой нормы, как юридическое уравнивание фактически неравных, неодинаковых людей, до конца не осознавалось. Даже Аристотель, высказывавший, по сути, ту же мысль, по крайней мере, применительно к сфере обмена, все же одно из условий лучшего государства видел в уравнивании собственности, т. е. в фактическом имущественном равенстве. Цицерон же подчеркивает свойство правовой нормы быть уравнивающей силой в обществе неравных и различных по своим качествам людей. Право предполагает юридическое равенство субъектов, и в случае его нарушения уничтожается и само право как социальный феномен.
Следует еще раз отметить, что у античных мыслителей, включая Цицерона, еще нет осознания взаимосвязи государства и права. «Полис», «civitas» – это понятия правового общества, а не правового государства. Все разновидности смешанных форм правления имели в виду не столько обеспечение права, сколько обеспечение стабильности полиса. Хотя, конечно, и то и другое тесно связано. Вместе с тем у Цицерона важно то, что свобода понимается им не только как состояние, противоположное рабству, но и как право на участие в общих делах. «…При царской власти все прочие люди совсем отстранены от общего для всех законодательства и принятия решений, да и при господстве оптиматов народ едва ли может пользоваться свободой, будучи лишенным какого бы то ни было участия в совместных совещаниях и во власти, а когда все вершится по воле народа, то, как бы справедлив и умерен он ни был, все-таки само равенство это не справедливо, раз при нем нет ступеней в общественном положении» (О государстве, I, XXVII, 43). Для Аристотеля тоже очень важна категория участия, ведь граждане – это те, кто участвует в суде и народном собрании, но участие у Аристотеля связывается не с правом, а с обязанностью. У Цицерона эта проблема выглядит несколько иначе: «…ведь приятнее, чем она (свобода. – И. К. ), не может быть ничего, и она, если она не равна для всех, уже не свобода. Но как она может быть равной для всех, уж не говорю – при царской власти, когда рабство даже не прикрыто и не вызывает сомнений, но и в таких государствах, где на словах свободны все? Граждане, правда, подают голоса, предоставляют империй и магистратуры, их по очереди обходят, добиваясь избрания, на их рассмотрения вносят предложения, но ведь они дают, что должны были давать против своего желания, и они сами лишены того, чего от них добиваются другие; ведь они лишены империя, права участия в совете по делам государства, права участия в судах, где заседают отобранные судьи, лишены всего того, что зависит от древности и богатства рода. А среди свободного народа, как, например, родосцы или афиняне, нет гражданина, который… (сам не мог бы занять положения, какое он предоставляет другим)» (О государстве, I, XXXI, 47).
Читать дальше