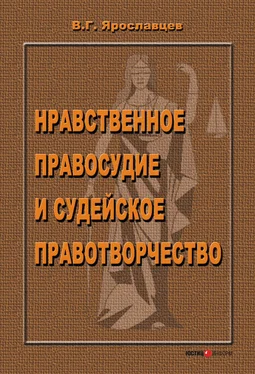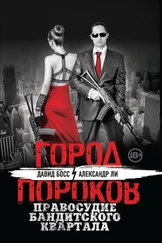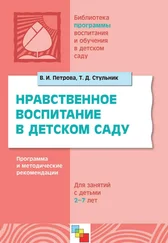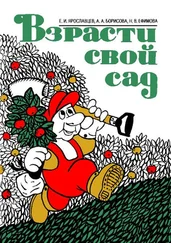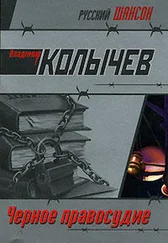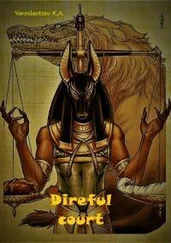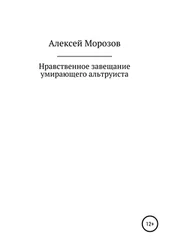Судья как носитель власти, субъект власти, реализуя эту власть в определенном деле, приводит в соответствие с правом (вечным, идеальным, справедливым, разумным представлением) «разумный неразумный» закон, т. е. «очеловечивает» его, и в этом состоит материальное содержание правосудия. Положение о «разумном неразумном» законе не является юридической абстракцией, а отражает реальное положение дел в сфере законотворчества. «Законодатель может издать закон для какой-то разумной цели, а результат закона в действительности может быть как раз обратный, вредный; или, наоборот, закон создан под влиянием каких-либо неразумных злых мотивов и целей, а в практическом результате может получиться полезное действие» [25] Там же. С. 304.
. Судья при отправлении правосудия вправе и обязан ограничить применение законов «неразумных» и расширить использование «разумных». В противном случае общество может ожидать «альтернатива» Г.Ф. Шершеневича: «Несколько резких результатов применения негодного закона, и последний принужден был бы уступить место новому. Правда, при этом приходится принести в жертву интересы нескольких лиц, которые пострадают при точном применении несправедливого и нецелесообразного закона» [26] Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. 4. М., 1912. С. 713.
.
Однако можно ли таким «оригинальным» образом, жертвуя интересами нескольких лиц, разрешить противоречие между торжеством закона во что бы то ни стало и правотворчеством судьи, который при отправлении правосудия примет все меры, чтобы не пострадали интересы даже одной личности? Ведь правосудие в материальном смысле есть осуществление законности и справедливости, милости правосудия. Многие авторы полагают, что «справедливость» – абстрактная категория морали (нравственности). Вместе с тем имеется и другая точка зрения, в частности Л.И. Петражицкого, по мнению которого, «исходя из теории интуитивного права как теории императивно-атрибутивных (правовых) переживаний, справедливость является правовой категорией». Отнесение справедливости со стороны моралистов к нравственности, а равно противопоставление ее со стороны юристов праву представлялось ему неправильным и подлежащим исправлению путем классификационного перемещения справедливости из класса нравственности в класс права. Он утверждал, что, применяя деление права на два вида (позитивное и интуитивное) и изучая переживания справедливости с этой точки зрения, мы имеем дело не с позитивно-, а с интуитивно-правовыми феноменами, поскольку решаем дело по «совести» согласно нашим самостоятельным, не зависимым от внешних авторитетов, убеждениям. Сообразно с этим сами законы подвергаются критике с точки зрения справедливости как некоего высшего масштаба и критерия [27] См.: Петражицкий Л.И. Указ. соч. Т. II. С. 507, 508.
. Именно так и только так должен поступать судья, воспитанный в духе acquitas, при решении дел, осуществляя то, что в силу его убеждения in concreto является справедливым. В связи с этим, несмотря на то что одним решение судьи покажется справедливым, а другим несправедливым, при всех обстоятельствах справедливость имманентно присуща законному судейскому решению и является необходимым и существенным его элементом. И в этом качестве «справедливость» конкретна, т. е. из абстракции морали (нравственности) превращается в правовую категорию.
Итак, там, где закон «одушевляется» человеком-судьей, появляется право. Право есть в широком смысле душа закона, часть его «бессмертия» от преторского права Рима до наших дней, и каждая эпоха наполняет закон одушевленностью права посредством судебной практики, которую следует признать источником права, самостоятельным, равноправным, но не равносильным (понятие Г.Ф. Шершеневича) закону, поскольку ему принадлежит доминирующая роль. И все-таки как не вспомнить слова И.А. Покровского: «Несмотря на всякие учения о безусловном главенстве закона, в действительности судья никогда не был и никогда не может стать простым механическим применителем закона, логической машиной, автоматически выбрасывающей свои решения. Его деятельность всегда имеет творческий элемент, и игнорировать этот последний – значит также создавать себе вредную фикцию, закрывать глаза перед неустранимой реальностью. Закон и суд не две враждебные силы, а два одинаково необходимых фактора юрисдикции. Оба они имеют одну и ту же цель – достижение материального, справедливого; закон для достижения этой цели нуждается в живом дополнении и сотрудничестве в лице судьи. И нечего бояться этой творческой деятельности судьи: судья в не меньшей степени, чем законодатель, – сын своего народа и своего времени и в не меньшей степени носитель того же народного правосознания» [28] Покровский И.А. Указ соч. С. 70, 71.
.
Читать дальше