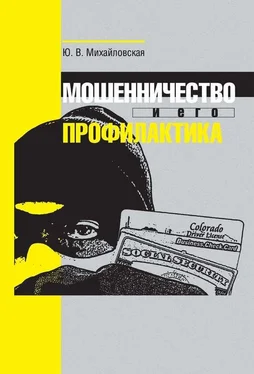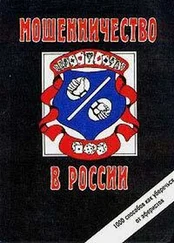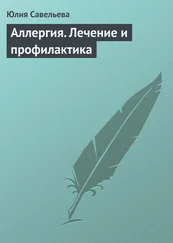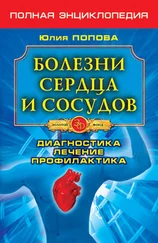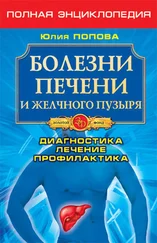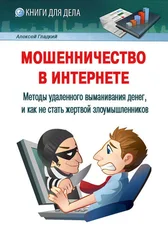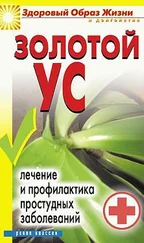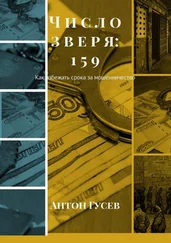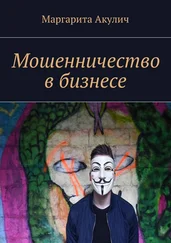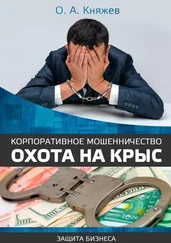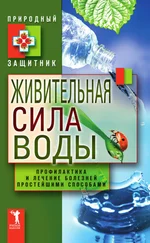Возникновение мошенничества как опасного социального и правового явления предопределено экономическими, социальными и политическими особенностями того или иного исторического периода, которые не только устанавливали отношение общества к этому преступлению, но и оказывали криминогенное влияние на само общество.
В римском праве мошенничество считалось тяжким деянием. Лиц, виновных в совершении корыстных преступлений с использованием обмана, ссылали на дальние острова, где осужденные чаще всего погибали от голода. Появление мошенничества в римском праве «было связано с развитием ипотечных отношений, где наказуемым признавался заклад чужого имущества или своего нескольким лицам порознь» [2].
Уголовное право Беларуси эпохи феодализма выделяло такой вид имущественных преступлений, как «замах на маёмасць», включавший в себя грабеж, кражу и присвоение имущества, незаконное пользование чужим имуществом и повреждение чужого имущества, преступления в отношении недвижимого имущества, нарушение правил, регулирующих взаимоотношения между «панам» и слугами [3, с. 148–149].
В соответствии с германским уголовным законодательством мошенничество – преступление «с намерением доставить себе или третьему лицу противоправную имущественную выгоду, причинить ущерб имуществу другого путем введения его в заблуждение или поддержания в нем заблуждения, выдавая ложные факты за истинные, или искажая, или скрывая истинные факты» [4, с. 76].
Мошенничество в России появилось в конце XVI–XVII вв., причем намного позже, чем в странах Западной Европы, где капиталистические отношения стали зарождаться в XIII–XIV вв. Возникновение и распространение мошенничества в России связывают с развитием торговли, расширением внутренних и международных рынков. Первоначально, как отмечают ученые, обман преобладал именно в сфере торговли. К типичным формам торгового мошенничества относился обман в качестве и количестве товаров, подмена одного товара другим, недовложение купленных предметов в стандартные упаковки [5, с. 5]. Распространенной ситуацией являлась продажа «негодного товара по цене качественного. Бобровую шерсть смешивали с кошачьей, в бочки с добрым салом добавляли гнилого». Наряду с недобросовестными продавцами существовали недобросовестные покупатели, которые, в свою очередь, также использовали всевозможные способы обмана – «оплачивали товар порченой монетой или передавали взамен купленного товара недоброкачественную вещь» [6].
В русской юриспруденции мошенничество понималось как «вовлечение обманом в невыгодный по имуществу договор, создающий потери на одной стороне и соответствующую ей прибыль на другой» [7]. В уголовном законодательстве того времени предпринята попытка разграничения мошенничества по предмету преступного посягательства на мошенничество против движимого имущества и обманы по договорам и обязательствам. При этом указывалось, что «имущественный обман прикрывается личиной договора» и возможен на стадиях возникновения, исполнения и прекращения договора, независимо от его формы (устной или письменной).
Следует обратить внимание на четкое разграничение мошенничества и гражданско-правового нарушения имущественных обязательств, которое не признавалось мошенничеством, так как для мошенничества «необходим привходящий признак обмана как причины имущественного обогащения виновного на счет потерпевшего» [7]. Достаточно широко определялся предмет мошенничества, поскольку в него включалось не только чужое имущество, но и право на имущество, «которым впоследствии виновный распоряжается как своей собственностью (депозит в банке, заложенное имущество)». Согласно уголовному законодательству, к конкретным видам мошенничества относились:
«1) выдача себя виновным для учинения мошенничества за лицо, действовавшее по поручению правительственной или общественной власти, а также присвоение им до того не принадлежавшего ему официального звания, особенно если он надевал для этого мундир или знак отличия. Такая квалификация известна и уголовному уложению 1903 г.;
2) обман для обыгрывания в игре запрещенной или незапрещенной, как-то: передергивание карт, употребление поддельных карт или иных поддельных орудий игры, опаивание играющего упоительными, особенно для того приготовленными напитками и зельями (но, как разъяснил сенат, не обыкновенным вином) и т. п., а также обманы при разыгрывании лотереи» [8].
Читать дальше