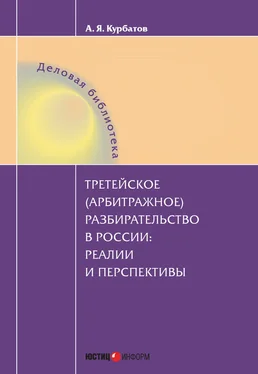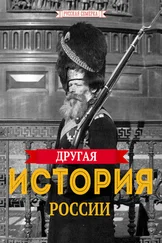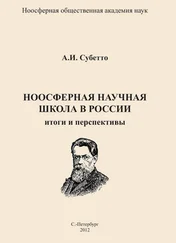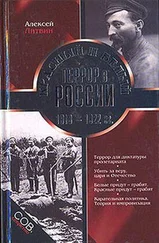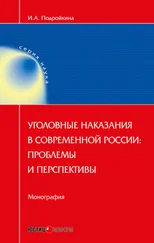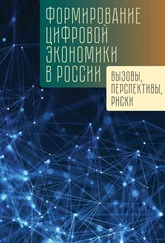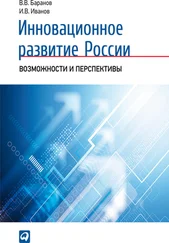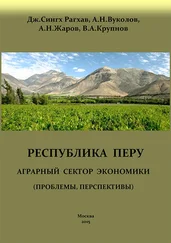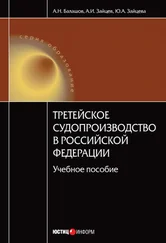Во-вторых, справедливость рассмотрения спора связывается Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ с отсутствием нарушения равноправия и автономии воли спорящих сторон.
В то же время в являющейся составной частью российской правовой системы Конвенции о защите прав человека и основных свобод, где закрепляется право на справедливое судебное разбирательство, говорится только о публичном разбирательстве дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона (п. 1 ст. 6).
В решениях Европейского суда по правам человека, который обладает полномочиями по толкованию указанной Конвенции (ст. 32), также ничего о связи справедливости с равноправием и автономией воли спорящих сторон не говорится. В любом случае, если такие решения есть, они должны были быть упомянуты в Постановлении. В противном случае получается, что Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ уже занялся и толкованием данной Конвенции, причем, не ссылаясь на нее.
Вообще-то равенство и автономия воли сторон – это признаки отношений, регулируемых гражданским правом (п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ). Если эти признаки отсутствуют, то и отношения не являются гражданско-правовыми [5] См.: Гражданское право. В 4-х т. Т. 1. Общая часть: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 34.
. Иными словами, это вопрос разграничения видов отношений (понятий), а не оценки правомерности норм законов и действий сторон.
Права на формирование условий договора могут ограничиваться не только законом, но и контрагентом. Если это происходит, то в зависимости от конкретных обстоятельств дела возникают основания для применения института договора присоединения, принципа недопустимости злоупотребления правом либо принципа добросовестности.
5. Нельзя не отметить и морально-этическую сторону данной ситуации.
Подавляющее большинство судей постоянно действующих третейских судов составляют видные ученые и практики, посвятившие свою жизнь становлению российской правовой системы, и по уровню профессионализма не уступающие членам Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. Подход Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ демонстрирует истинное отношение входящих в его состав судей к своим коллегам по практической и научной деятельности, которые все разом отнесены к лицам, не имеющим ни моральных, ни профессиональных принципов, готовых «за плату» принимать любые «заказные» решения.
Истинные причины подхода Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
Самое печальное во всей этой ситуации, что анализируемый подход Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ не имеет прямого отношения к защите прав сторон в спорах, рассматриваемых третейскими судами.
Как свидетельствует анализ арбитражной практики, по делам об отказе в выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов, ответчиками по таким делам, как правило, являются лица, не желающие исполнять свои обязательства и не имеющие никаких серьезных аргументов в свою пользу по существу спора. Мало того, чаще всего, они не только заключили третейскую (арбитражную) оговорку, но и не оспаривали компетенцию третейского суда до рассмотрения спора, третейских судей не выбирали, отводов назначенным третейским судьям не заявляли, но, тем не менее, на стадии получения исполнительного листа начинают оспаривать третейскую (арбитражную) оговорку. В результате получается, что решения арбитражных судов в этом случае принимаются в пользу именно недобросовестных участников экономических отношений.
По мнению автора, при отсутствии указанных фактов признание арбитражными судами третейских (арбитражных) оговорок недействительными является вмешательством в частноправовые отношения. А ведь, как отмечает Конституционный Суд РФ, недопустимость произвольного вмешательства является одним из признаков природы гражданско-правовых отношений (абзац 2 п. 3.1 мотивировочной части Постановления от 26.05.2011 № 10-П).
Кроме того, игнорируются нормы законов и позиции третейских судов, несмотря на то, что, согласно п. 1 ст. 17 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или об отсутствии у него компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор, в т. ч. в случаях, когда одна из сторон возражает против третейского разбирательства по мотиву отсутствия или недействительности третейского соглашения.
Читать дальше