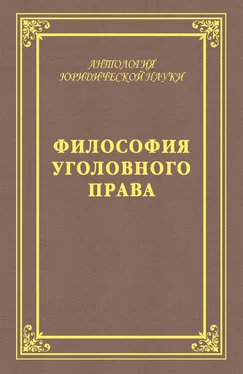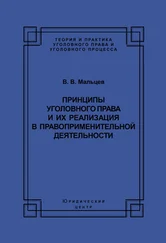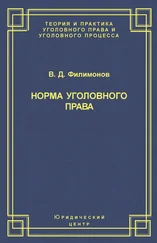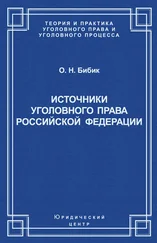Следует заметить, что социальная практика пошла совсем по другому пути. Именно в 50-60-е гг. были приняты важные решения об укреплении правовой службы в народном хозяйстве, о повышении качества юридической подготовки кадров и ряд других, что было прямо противоположно ситуации 20-30-х гг., когда подготовка юридических кадров исчислялась десятками и сотнями на всю страну, учебников по юридическим дисциплинам не издавалось, правовая пропаганда полностью отсутствовала, законы подменялись постановлениями партии и правительства [29] Кудрявцев В., Трусов А. Политическая юстиция в СССР. М., 2000.
.
Не способствовало укреплению правовых основ общества и господство однопартийной системы, получившее правовое закрепление в ст. 6 Конституции СССР 1977 г. [30] Интересно отметить, что Китай, начавший свою «перестройку» через год после принятия Конституции СССР, избежал такого подхода, но в течение нескольких лет принял одну за другой три Конституции, при этом каждая последующая мало походила на предыдущую. Иными словами, там поиски оптимума велись и ведутся до сих пор в поле законотворчества при сохранении руководящей и направляющей роли КПК.
Раз КПСС является «руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы», значит, ее решения являются первичными по отношению к закону. Так и было долгие годы: закон подменялся решениями партии, а позже решениями партии и правительства. Эта последняя чеканная формулировка прекрасно известна всем гражданам СНГ старше двадцати лет. На практике это привело к тому, что принятые и вступившие в силу законы не применялись до тех пор, пока не были объявлены приказами по министерствам и ведомствам. Очевидное заблуждение получило тем не менее широкое распространение и глубоко укоренившееся в сознании даже профессиональных практикующих юристов тех лет.
Не удивительно, что на этой почве стал процветать и крепнуть правовой нигилизм.
Конечно, история правового нигилизма на Руси соседствует с историей позитивного, писаного права. Достаточно вспомнить известный тезис, авторство которого приписывается
М. В. Ломоносову, о жестокости российских законов, смягчаемых их неисполнением, и такие образчики народной мудрости, как «закон, что дышло, как повернул, так и вышло». Однако правовой нигилизм в условиях малой социальной мобильности и почти полного отсутствия коммуникационных связей в обществе и правовой нигилизм в современных условиях – это совершенно разные по своей социальной силе и социальной значимости вещи. Будучи социально заразным, правовой нигилизм становится социально опасным тогда, когда, как идея, охватывает огромные слои пусть поверхностно, но образованного и поголовно грамотного населения. Достигнув пика своего развития, он становится просто разрушительным. Известная «война законов» 1990–1991 гг. – противостояние союзного и республиканского законодателя в те годы – привела к весьма трагическим последствиям.
Любые социальные процессы по своей природе весьма инерционны: набрав обороты они не в состоянии прекратиться в одночасье. Война законов с союзного уровня очень естественно и плавно перекочевала на уровень федеральный в Российской Федерации. Федеральное законодательство и законодательство субъектов Федерации в 1992–2000 гг. очень сильно стали противоречить друг другу. Конституционный Суд Российской Федерации принял не одно постановление по этому поводу, а Генеральный прокурор РФ направил сотни представлений, но дело с места не двигалось. Только с 2000 г. стала проводится планомерная и кропотливая работа по приведению в соответствие федеральному законодательству законодательства субъектов Федерации. Но она до сих пор не завершена и противодействие этому процессу не прекратилось, что неизбежно начинает проявляться в поведении многих людей, незаконных, нелегитимных и противоправных действиях и поступках.
К этому приложили руку не только политики, но и юристы. Именно в конце 80-х – начале 90-х гг. стали в огромном количестве плодиться и культивироваться псевдонаучные фразы и «общенаучные подходы», которых не было, а в ряде случае и быть не могло. Наибольшую известность получило поклонение тезису: «Дозволено все, что не запрещено». На самом деле количество запретов не сокращалось, но они стали приобретать иную форму, выливаясь зачастую в откровенные поборы. Кто-то из юристов дал этому интегративную, крайне саркастическую и забавную одновременно оценку, описывая четыре европейских типа права: «английская система: можно все, кроме того, что нельзя; немецкая система: нельзя ничего, кроме того, что можно; французская система: можно все, даже то, что нельзя; русская система: нельзя ничего, даже того, что можно» [31] Афоризмы о юриспруденции. М., 2002. С. 210.
.
Читать дальше