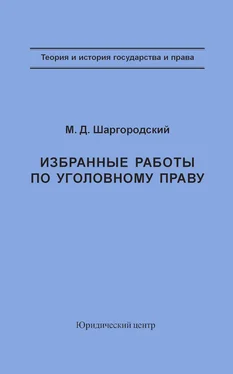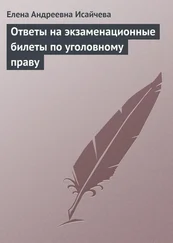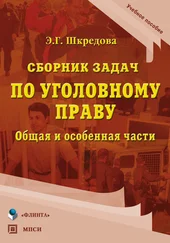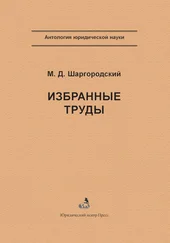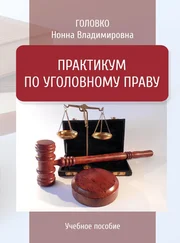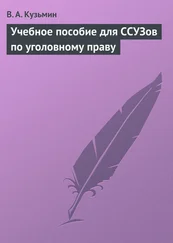Помощь при самоубийстве по существу мало чем отличается от убийства по просьбе, а подстрекательство к самоубийству деяние значительно более тяжкое, положения акцессорной теории соучастия о ненаказуемости основного деяния не могут оказать никакого влияния на наше право, а преступление это к тому же должно быть предусмотрено как delictum sui generis. Вопрос о сходстве между участием в самоубийстве и убийством по просьбе неоднократно возникал в литературе. F. Helie считал безразличным, убивает ли человек себя собственной рукой или рукой другого, но Фойницкий основательно возражал, что «сближение это верно для убиваемого, но не для убивающего». [35]
Наличие в советском уголовном праве особого состава доведения до самоубийства, который в других законодательствах отсутствует, должно быть признано вполне правильным. Практически применение уголовной ответственности за это преступление требует осторожности и тщательного учета обстоятельств дела. Доведение до самоубийства предполагает наличие непосредственной причинной связи между фактом самоубийства и преступным деянием обвиняемого, но и одного наличия такой причинной связи еще недостаточно, нужно, чтобы действие обвиняемого, повлекшее за собой самоубийство, охватывалось понятием жестокого обращения или иного подобного пути и чтобы потерпевший находился в материальной или иной зависимости от лица, привлекаемого к уголовной ответственности. Поэтому «один факт прекращения половой связи, повлекший самоубийство, не является еще достаточным для обвинения прекратившего эту связь в доведении до самоубийства», [36]точно так же «самоубийство на почве личных отношений между потерпевшим и подсудимым не может быть поставлено последнему в вину, если по делу не установлено, что самоубийство явилось результатом жестокого или подобного обращения подсудимого с потерпевшим, находившимся от него в зависимости». [37]
Неоднократно подчеркивалось руководящими судебными органами, что «самоубийство материально зависимого лица не может быть поставлено в вину подсудимому при недоказанности связи между действиями подсудимого и самоубийством». [38]Однако, исходя здесь, как и во всех остальных случаях, из субъективной вины, мы полагаем, что одной причинной связи еще недостаточно, необходима вина и в отношении результата, т. е. нужно, чтобы виновный, если он не желал результата, хотя бы мог и должен был предвидеть, что результатом его действий может явиться самоубийство потерпевшего; если этого не было, то, как мы полагаем, ответственность исключается. Поэтому мы не можем согласиться с определением УКК ВС РСФСР, которая, исходя из правильного положения, что «ст. 141 предусматривает не только жестокость обращения, но и другие способы доведения до самоубийства», пришла к выводу о виновности мужа, который в письме к первой жене называл вторую жену «куском мяса», «бараньей головой» и т. п., а последняя, прочитав это письмо, отравилась, [39]хотя причинная связь здесь и имеется, но отсутствует субъективная виновность, и значит оснований для уголовной ответственности нет.
Физическое или психическое принуждение к самоубийству есть, конечно, не что иное, как умышленное убийство. Точно так же как убийство следует рассматривать и случаи доведения до самоубийства с прямым умыслом, таким образом, виновность при этом преступлении в отношении результата может быть либо в форме неосторожности, либо в форме эвентуального умысла. [40]
Если самоубийство явилось результатом законных действий обвиняемого, то даже при наличии причинной связи и заведомости уголовная ответственность не может иметь места; так, нельзя привлечь к уголовной ответственности начальника, законно уволившего сотрудника, или мужа, разошедшегося с женой, если даже они были предупреждены, что сотрудник или жена намерены покончить с собой, и все же не отказались от своих действий.
В. Неохраняемая жизнь в истории уголовного права.История уголовного права знает значительное число лиц, которые не признавались возможными объектами убийства, которые правом не защищались и лишение которых жизни признавалось ненаказуемым.
Классовый характер уголовного законодательства в отношении убийства находил свое выражение не только и даже не столько в том, как оно каралось, сколько в том, когда и в отношении кого оно разрешалось и когда не влекло за собой уголовного преследования.
Уголовное право долгое время вовсе не всякого человека считало возможным объектом преступления против личности, в том числе и убийства.
Читать дальше