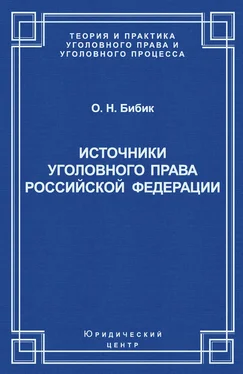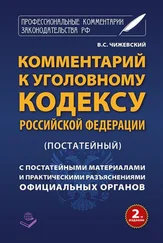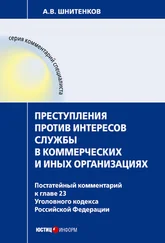Потребность в источниках права можно ограничивать лишь в известных пределах, с учетом наличия реальной возможности обеспечить соблюдение данного ограничения. Следует иметь в виду, что ограничение перечня источников права путем формального его закрепления не всегда может быть реализовано на практике. Так, на момент существования Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. фактически нормативные правовые акты по вопросам уголовного права принимали Президиум Верховного Совета СССР и президиумы Верховных Советов союзных республик «в виде указов, издаваемых в период между сессиями Верховных Советов с обязательным последующим их утверждением на очередных сессиях Верховных Советов» [31] Курс советского уголовного права. (Часть Общая). – Л.: Изд-во ЛГУ, 1968. – Т. 1. – С. 47.
. При этом сами Основы не предусматривали принятия таких актов в рамках уголовного законодательства, состоящего из союзных и республиканских законов.
Роль формы в понятии источника права во многом связана с реализацией политики государства в сфере нормотворчества. Определяя заранее конкретные формы выражения норм права, государство стремится упорядочить правовое регулирование, но не может при этом исключить возможности появления иных источников указанных норм. Следует согласиться с мнением А. В. Мадьяровой, согласно которому «фактор соблюдения формы правоустановления должен влиять на оценку не сущности деятельности, а ее правомерности» [32] В приведенном данным автором примере Верховный Суд РФ рассмотрел правовой акт «как нормативный правовой акт, в полном смысле слова только исходя из его содержания, невзирая на формальную сторону вопроса», невзирая на несоблюдение Центральным банком РФ требований к форме правового акта (см.: Мадьярова А.В. Указ. соч. – С. 51, 79). К подобным выводам судебные органы пришли и в ряде других аналогичных случаев (см., напр.: решение Верховного Суда РФ от 9 сентября 1998 года № ГКПИ 98-394 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1999. – № 3. – С. 7–9; решение Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 1998 года № ГКПИ 98-646 (документ опубликован не был, размещен в справочной правовой системе «Консультант-Плюс»).
.
Источник права может признаваться в качестве такового не формально, т. е. путем прямого указания на конкретную форму его выражения, как это сделано, например, в ст. 1 УК РФ, а фактически, исходя из практики государственных органов, издающих или применяющих соответствующие нормы права. Примеры тому есть в истории. Так, в свое время в римском праве появилось преторское право в силу принадлежащей претору власти с учетом того, что указанное право не было санкционировано, а правотворческие функции претора вовсе формально отрицались [33] См.: Ткешелиадзе Г.Т. Судебная практика и уголовный закон. – Тбилиси, 1975. – С. 20–21.
.
В связи с этим уместно рассматривать такой феномен, как фактические источники права, признаваемые в практике государственных органов. К подобным источникам, в том числе в уголовном праве, ранее предлагалось относить судебный прецедент, руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда СССР, решения по конкретным делам вышестоящих инстанций [34] См.: Явич Л.С. Общая теория права. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1976. – С. 78–80; Черданцев А.Ф. Толкование советского права. – М.: Юрид. лит., 1979. – С. 145; Ковалев М.И. Советское уголовное право: Курс лекций. – Свердловск, 1974. – Вып. 2. – С. 36; Наумов А.В. Судебный прецедент как источник уголовного права // Российская юстиция. – 1994. – № 1. – С. 9; Уголовное право. Общая часть: Учебник. – М.: Спарк, 1996. – С. 62–63.
. Не все указанные явления могут претендовать на данный статус. Все же вполне обоснованно сегодня рассматривается вопрос о признании в качестве источников права постановлений Пленума Верховного Суда, которые «de facto выполняют функцию источника права, являясь самостоятельными нормоустанавливающими правовыми актами» [35] Мадьярова А.В. Указ. соч. – С. 241.
. В данном случае фактическое признание в качестве источника права имеет такое же значение, как и формальное его санкционирование.
В науке существуют и другие позиции, по которым источниками права предлагается считать явления, официально не признанные таковыми, но используемые на практике (правосознание, принципы права, программное право, право юридической экспертизы) [36] См.: Бошно С.В. Доктринальные и другие нетрадиционные формы права // Журнал российского права. – 2003. – № 1. – С. 83–91.
. Так называемое фактическое правотворчество встречает подчас обоснованную критику, поскольку не поддерживается государством [37] См., напр.: Кленова Т.В. Принципы уголовного права и принципы кодификации в уголовном праве // Гос-во и право. – 1997. – № 1. – С. 55–56.
.
Читать дальше