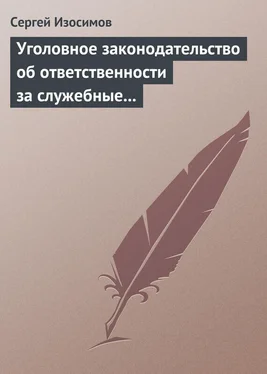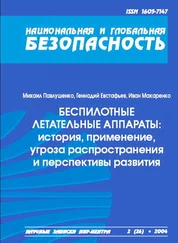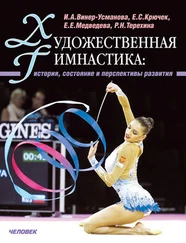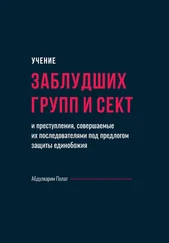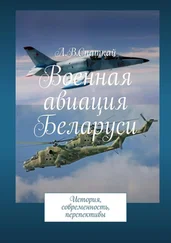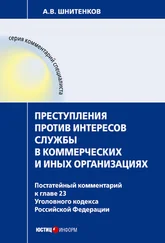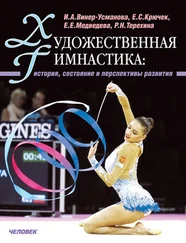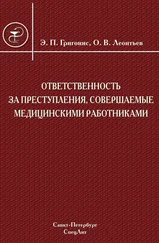Особенностью этого определения следует признать то, что в нем в традициях российской правовой мысли получила воплощение концепция о публично-правовой природе понятия должностного лица. Она проявляется в делегировании части государственно-властных полномочий конкретному представителю госаппарата, который осуществляет определенные управленческие функции в интересах общества от имени и по поручению государства. Но, несмотря на преимущества указанного определения по сравнению с ранее имевшимися, оно не изменило проводимой государством уголовной политики, связанной с установлением рамок должностных преступлений и определением их субъектов. Расширение круга лиц, признаваемых виновниками преступлений по должности, имело свои основания.
Во-первых, такой подход был обусловлен формированием новых экономических отношений в стране, граждане которой стали рассматриваться в качестве служащих одного всенародного государственного «синдиката».
Как писал в 1920 г. нарком юстиции РСФСР Д. И. Курский, должностные посягательства получили «вместе с Октябрьским переворотом исключительное значение, так как национализация промышленности и торговли превратила всех частных служащих и рабочих в должностных лиц. Современный строй не знает или почти не знает более частной службы. Все торговые приказчики и фабричные рабочие являются ныне экономическими чиновниками, внесенными в штаты соответствующих учреждений и получающими жалованье по определенным тарифным ставкам. Вследствие этого группа должностных преступлений должна чрезвычайно вырасти количественно, получить большое уголовно-политическое значение» [80] Цит. по: Утевский Б. С. Общее учение о должностных преступлениях. М.: МЮ СССР, 1948. С. 262.
.
А. Я. Эстрин в связи с этим отмечал, что «советское право… по принципиальным соображениям пошло в смысле расширения содержания понятия “должностное лицо” гораздо дальше буржуазного» [81] Эстрин А. Я. Должностные преступления. М.: НКЮ РСФСР, 1928. С. 30.
.
Во-вторых, такое направление в уголовно-правовой политике было связано с изменениями, происходящими в сфере управления. Новым политическим приоритетом стало «привлечение трудящихся к повседневному выполнению государственных функций» как непосредственно, так и через различного рода общественные механизмы [82] См.: Безверхов А. Г. Должностные (служебные) преступления и проступки: Дис. … канд. юрид. наук. Казань, 1995. С. 57–58.
.
По этому поводу А. А. Пионтковский писал: «Для того чтобы понять круг должностных преступлений по советскому уголовному праву и уяснить их особенности сравнительно с буржуазным уголовным законодательством, необходимо исходить из своеобразия советского госаппарата. Основное отличие советского госаппарата от государственного аппарата буржуазии состоит в том, что буржуазный госаппарат стоит над массами, он чужд народным массам, а советский государственный аппарат не стоит над массами, а сливается с широкими массами трудящихся, и советским государственным аппаратом в широком смысле слова являются не только Советы с их органами власти, но и ”организации всех и всяких беспартийных объединений, соединяющих Советы с глубочайшими «низами», сливающих государственный аппарат с миллионными массами и уничтожающих шаг за шагом всякое подобие барьера между государственным аппаратом и населением“ (И. Сталин. Вопросы и ответы. М., 1925. С. 8)» [83] Пионтковский А. А. Советское уголовное право. Особенная часть. Т. 2. М.; Л., 1928. С. 206–207.
.
Очевидно, что с учетом трансформаций, произошедших в сфере экономики и управления, позиции законодателя, правоприменителя и представителей правовой науки в части ответственности за преступления по должности существенным образом изменились.
Субъектами названных посягательств стали признаваться все служащие государственных органов, предприятий, учреждений и организаций вне зависимости от занимаемой ими должности, наличия или отсутствия властных полномочий.
Как писал А. А. Жижиленко, «с точки зрения современного строя всякий служащий является в то же время должностным лицом, как бы ни была незначительна его функция в общей системе государственного устройства» [84] Жижиленко А. А. Должностные (служебные) преступления. 3-е изд., испр. и доп. М.: Право и жизнь, 1927. С. 5; см. также: Пионтковский А. А. Указ. соч. С. 207; Эстрин А. Я. Указ. соч. С. 33–34.
. Отсюда признавалось, что «должностное преступление может иметь место как со стороны низшего служащего (скажем, курьера, сторожа, канцеляриста), так и со стороны служащего, занимающего более высокую и ответственную должность» [85] Кожевников М., Лаговиер Н. Должностные преступления и борьба с ними: Попу лярный очерк. М.: НКЮ РСФСР, 1926. С. 41.
.
Читать дальше