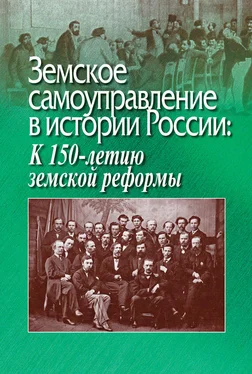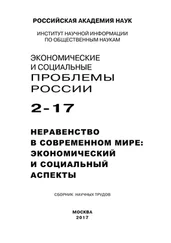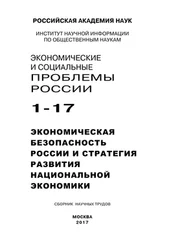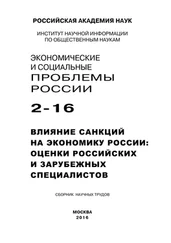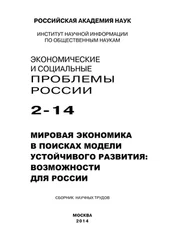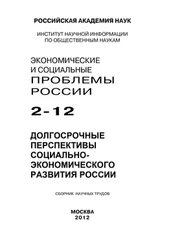Широкое использование мирской самодеятельности в общегосударственных делах положило начало новому периоду в истории местного управления, получившему характер земского самоуправления. Но на практике выборная служба многочисленных старост и голов, отбывавших под личной ответственностью и ответственностью избирателей «казенные поручения», воспринималась как очередная земская повинность. Вполне естественно, что «охотников занимать земские должности не бывало <���…> их надо было уговаривать и избирать чуть не силой» [10] Богословский М. М. Земское самоуправление на русском Севере в XVII в. Т. 2. М., 1912. С. 27, 153.
. Службы «государевы» требовали значительного числа исполнителей, поэтому, вопреки предписанию правительства, на выборные должности избирались не только состоятельные люди. Так, сольвычегодский таможенный и кружечных дворов голова жаловался в 1669 г. царю Алексею Михайловичу: «А выбрали меня сироту твоего, пашенного крестьянина, неграмотного и непромышленного и неторгового, и животом я, сирота твой, непрожиточен, должен, и преж сего, Государь, ни у какого твоего Великого Государя дела не бывал, и твоего, Великого Государя, таможенного и кружечных дворов дела не ведаю» [11] Цит. по: Чичерин Б. Н. Областные учреждения России в XVII в. М., 1856. С. 395–396.
.
Тяглый характер местного управления был обусловлен особенностями формирования Московского государства. Процесс его становления проходил в условиях непрерывной военной борьбы, которая ставила перед неокрепшим государством неотложные задачи национальной самообороны прежде, «чем естественная эволюция экономических и социальных отношений успела выработать надежные средства к их успешному разрешению» [12] Кизеветтер А. А. История России // Россия. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Л., 1991. С. 457.
. В результате, предметом забот центральной власти был не рост благосостояния населения, а мобилизация всех его сил и ресурсов путем прикрепления к различным видам государственной службы. В отличие от стран Западной Европы, где политическая централизация сопровождалась освобождением сословий, в Московском государстве этот процесс был неразрывно связан с прикреплением населения к службам и повинностям, положившим начало образованию тяглых сословий.
Эти особенности государственного развития определили и разные пути формирования самоуправления в Европе и России. Если в Европе политическая централизация способствовала развитию местного самоуправления, то в России она положила начало формированию сословного самоуправления. Сословные корпорации явились необходимым этапом в истории самоуправления, подготовив к середине XIX в. «постепенное слияние местного общества в земском представительстве» [13] Градовский А. Д. История местного управления в России // Собрание сочинений. Т. 2. СПб., 1899. С. 312–313.
.
Московское государство не знало сословий, как замкнутых объединений, наделенных общими, равными для всей группы наследственными правами и обязанностями, характерных для социальной структуры европейских стран. Сословные группы того времени носили тяглый характер, а их значение и состав определялись прикреплением к той или иной государственной службе. Петр I еще более осложнил эту «разверстку», но не создал сословий. По определению историка Е. В. Анисимова, социальные группы, возникшие в ходе петровских реформ, «не имели законодательно оформленных сословных прав и привилегий, сословной организации и системы самоуправления, а также сословного суда, т. е., в сущности, не являлись корпорациями публичного права» [14] Анисимов Е. В. Империя. Возникновение и рост. Поворот к Европе // Власть и реформы. От самодержавной к советской России. СПб., 1996. С. 168.
.
Многочисленные реформы первой четверти XVIII в., предусматривавшие введение в организацию местного управления начал европейского самоуправления, не увенчались успехом. Бурмистерская палата и подчиненные ей земские избы (созданы в 1699 г. [15] ПСЗ-I. Т. 3. 30 января 1699 г. № 1674 и 1675.
) по своему устройству напоминали органы самоуправления прибалтийских (остзейских) городов, где с XV в. действовало немецкое (магдебургское) городское право, но характер их деятельности был другим. Новые учреждения решали преимущественно фискальные задачи, направленные на централизацию сбора государственных доходов и объединение управления торгово-промышленным населением, собиравшим эти доходы [16] Тарловская В. Р. Из истории городской реформы в России конца XVII – начала XVIII в. // Государственные учреждения России XVI–XVIII вв. М., 1991. С. 107–108.
. Не стали органами городского самоуправления и городовые магистраты (созданы в 1720-е гг. вместо земских изб), получившие статус «главы и начальства всему гражданству» [17] ПСЗ-1. Т. 6. № 3708. 16 января 1721 г.
. Хотя, как отмечал А. А. Кизеветтер, в городских законах 1720-х гг. прослеживалось определенное «стремление создать из русского тяглого города центр промышленности и культуры, и заложить в рамках городской жизни основание общественного самоуправления» [18] Кизеветтер А. А. Посадская община в России XVIII столетия. М., 1903. С. IV.
. Однако в связи с отсутствием гарантированных источников доходов, предписания многочисленных «регламентов» и «инструкций», взятых из европейского законодательства (об открытии школ, госпиталей, благоустройстве городов и пр.) остались лишь благими пожеланиями законодателя [19] Кизеветтер А. А. Посадская община. С. 619–795; Водарский Я. Е. Из истории создания Главного магистрата // Вопросы социально-экономической истории и источниковедения периода феодализма в России. М., 1961. С. 108–112; Козлова Н. В. Российский абсолютизм и купечество в XVIII веке (20-е – начало 60-х годов). М., 1999. С. 112–272.
.
Читать дальше