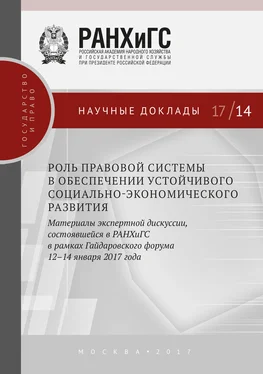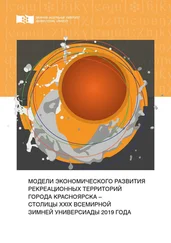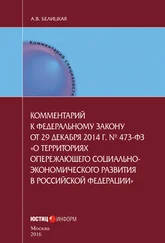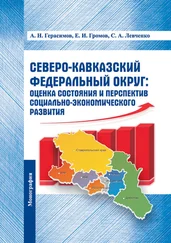Подход Р. Познера, используемый для исследования и регулирования поведения участников правоотношений, в том числе хозяйствующих субъектов, базируется на предположении о максимизации экономической эффективности в судебных решениях, а правовые нормы представляют собой и некие ценовые сигналы для принятия «нерыночных» решений. Правовые решения, таким образом, должны исходить из критерия экономической эффективности (через максимизацию дохода или сведение к минимуму трансакционных издержек), а сама система прецедентного права представляет собой некий аналог (имитацию) рынка, участвующий в аллокации ограниченных ресурсов. Отсюда, в частности, следует и базовый подход к мотивации и оправданности правовых реформ (законов и институтов) – только соображения экономической эффективности, прежде всего устранение неоправданных препятствий для добровольного обмена, инфорсмент контрактов, спецификация, максимизация эффективности распределения и защита прав собственности, обеспечение свободы (добровольности) сделки [2] Подробнее о методологии Р. Познера см., например: Harnay, Marciano, 2003; Mestmäcker, 2007; Дорохин, 2014.
.
Напротив, идущая от Милля традиция «права и экономики» наделяет обе эти сферы равным статусом. Оценивая право как гораздо более прикладную и реалистичную (в отличие от экономической теории) дисциплину, сторонники данного направления, к которым относится и Г. Калабрези, концентрируют внимание на возможной модификации (пересмотре) сложившихся и, возможно, устаревающих экономических представлений под влиянием конкретных правовых задач. Отношения права и экономики в этой традиции являются двусторонними, а исследования правоведов дают повод к изменениям не в праве или в описании правовой реальности, а в экономической теории. С определенной степенью условности к этой традиции можно отнести и экономиста Рональда Коуза, вклад которого со всей очевидностью перевешивает работы многих правоведов, придерживающихся позиций равноправного взаимообогащения права и экономики.
В более широкой постановке сюда можно отнести и поведенческую экономику (Г.Беккер, М.Алле, Г.Саймон, Д.Канеман, А. Тверски, Д. Ариэли и др.), хотя точки соприкосновения здесь носят в большей степени методологический характер. Подход, основанный на равноправном взаимодействии права и экономики, в данном случае дополняется включением психологического фактора прежде всего тогда, когда право перестает давать адекватные ответы как посредник между экономической теорией и реальностью человеческой жизни.
Ортогональной к указанным выше (однако весьма близкой к поведенческой экономике) можно считать концепцию «порядка без права». В логике Р. Элликсона (2017) право не столь значимо, как это традиционно утверждается. Координация человеческих поступков (действий), равно как и мотивации к тем или иным решениям, задаются в большей мере неформальными нормами и правилами, сложившимися в обществе без воздействия государства.
Тем не менее вопрос присутствия государства в системе взаимоотношений права и экономики столь очевиден, что речь может идти лишь о функциях и масштабах. В теоретической литературе расширение (сокращение) государственного присутствия, в том числе посредством детализации правового регулирования, в экономике чаще всего связывают с необходимостью преодолеть «провалы рынка» (гораздо реже – «провалы государства»). Одним из центральных пунктов в данной проблематике является регулирование и защита прав собственности, поэтому многие примеры ниже рассматриваются именно в данном контексте.
Государственное регулирование
Проблема осмысленности и границ вмешательства государства в сферу экономических отношений так же стара, как и само государство. В классификации Д. Норта первая экономическая революция состоялась именно тогда, когда произошел переход от кочевой к оседлой жизни и соответственно впервые потребовалась централизованная (на уровне первых прототипов государственного устройства) защита (гарантия) прав собственности на землю, которая обеспечила для собственников стимулы повышения эффективности и производительности.
Как замечает Дэвид Юм, собственность должна быть стабильна и установлена с помощью общих правил. Пусть в отдельном случае от этого страдает общество, однако такое временное зло щедро возмещается постоянным проведением данного правила в жизнь, а также тем миром и порядком, которые оно устанавливает в обществе (Юм, 1966 [1739]: 1,649). Несколько иную формулировку указанной закономерности можно найти у Д. Норта: когда государству удавалось сформировать с его точки зрения «лучшую» (приносящую сравнительно большие выгоды властным элитам) структуру собственности, которая максимизирует ренту, присваиваемую правителем (и его группой), такие отношения собственности обычно вступали в конфликт с требованиями интенсивного экономического роста. Формирование политико-правовых условий, которые в наибольшей степени могут способствовать интенсивному долгосрочному экономическому росту, обычно связывают с существенным сокращением сферы прежнего (феодально-кланового или командно-административного) «всепроникающего» регулирования.
Читать дальше