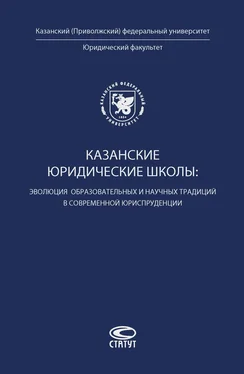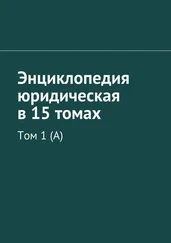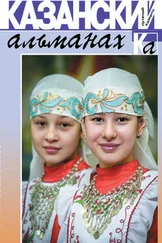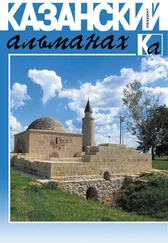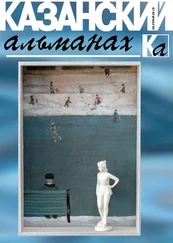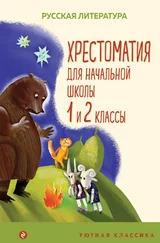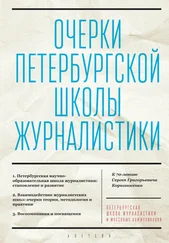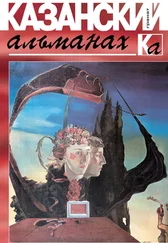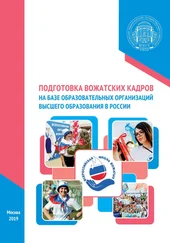Целью уголовной политики Солнцев объявляет безопасность граждан и благоденствие государства. То и другое возможно лишь в «законном состоянии», «сие состояние есть состояние политического равенства и свободы» 77.
Далее, со ссылкой на наказ Екатерины II, он раскрывает содержание свободы и равенства: «Свободы граждан состоят в возможности делать все то, что каждому хотеть надлежит и чтобы не быть принужденным того делать, чего хотеть не должно. Равенство в том состоит, чтобы каждый пользовался своим правом, не стесняя законной свободы других и чтобы каждый гражданин подвержен был равномерно силе одних законов» 78.
В полном согласии с названными понятиями, не ограничиваясь формальной стороной (противоречие уголовному закону), Солнцев определяет преступление как «внешнее, свободное, положительными законами воспрещаемое, деяние, безопасность и благосостояние государства или частных его граждан, посредственно или непосредственно, нарушающее и правомерное наказание за собой для преступника влекущее» 79.
Заслуживают внимания криминалистов представления Солнцева о наказании, относительно прогрессивные и гуманные по тому времени 80. Взять, например, его требование законности действий и недопустимости произвольного толкования законов. «Если на какое-либо деяние, – пишет Солнцев, – нет ясного законоположения уголовного, а оным причиняется нарушение прав чьих-либо, в таком случае судья не имеет права полагать произвольного наказания, но в сомнительности случая испрашивает на то разрешение от высшего правительства» 81. «…Без суда, – говорит он далее, – никто не наказывается, без исследования и суда ни у кого не отнимают чести и имения, противное тому будет почитаться не приговором судебным, но насилием гражданину причиненным и оскорблением гражданской свободы» 82.
Нужно заметить, что приведенные идеи имеют своих авторов, которых Солнцев не называет; он лишь пропагандирует их теории. Тот же Г.С. Фельдштейн дает этому вполне вероятное, на наш взгляд, объяснение. Цензурные условия и тот факт, что Солнцеву пришлось самому пройти горькую школу русской действительности, заставляли его с весьма понятной целью избегать ссылок на иностранных вольнодумцев, заменяя всякие цитаты указанием на наказ Екатерины II 83.
Профессор Солнцев в результате ревизии, произведенной Магницким, был обвинен в вольнодумстве и предан суду. Его судили за «оскорбление Духа Святого Господня и власти общественной». Университетский суд постановил: «Удалить его навсегда от профессорского звания и впредь никогда ни в какие должности во всех учебных заведениях не определять». В обвинительном приговоре, в частности, говорилось, что Солнцев «смешал откровенное в Евангелии Божественное учение с мнениями человеческими, проистекающими из поврежденного разума…» 84.
Впоследствии, когда сам Магницкий был вынужден уйти в отставку, когда был введен новый университетский устав, разумеется, ни свободы преподавания, ни тем более свободы выражения своих научных идей ученые не получили. Устав 1835 г. требовал сословного характера образования и, главное, был направлен против передовых политических влияний 85. Естественное право как специальный предмет упраздняется. Не без связи с европейскими революционными событиями 1848 г. в Казанский университет поступило распоряжение царского правительства о сокращении программ преподавания некоторых политических и юридических наук. Попечитель Казанского университета рекомендовал, со своей стороны, удалять все «излишнее», все «неуместное», «все могущее служить хотя косвенным и неумышленным поводом к заблуждению умов неопытных…» 86.
Несмотря на жесткий режим преподавания, прогрессивные ученые продолжали борьбу против схоластики и мракобесия в науке. В числе таких ученых нужно прежде всего назвать Д.И. Мейера, пропагандировавшего в Казани произведения Белинского, смело выступавшего в своих лекциях против крепостного строя, используя университетскую кафедру для воспитания молодежи 87.
Деятельность Мейера высоко ценили Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов. Чернышевский называл его одним из лучших профессоров правоведения в России 88.
Если большинство профессоров того времени читали свои лекции в отрыве от юридической практики и русской действительности, ограничиваясь простым изложением действующих законоположений, то Мейер стремился к выяснению общих основ развития права, к преподаванию в тесной связи с развитием общественных отношений и существующими воззрениями русской науки.
Читать дальше