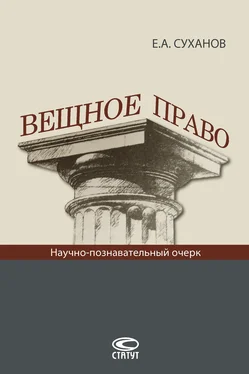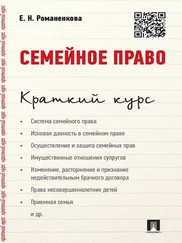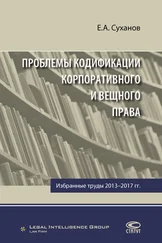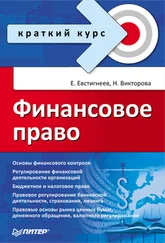В результате по указанному основанию можно выделить ограниченные вещные права:
1) по использованию чужих земельных участков (главным образом находящихся в публичной, а не в частной собственности);
2) по использованию чужих жилых помещений;
3) права на хозяйствование с имущественным комплексом собственника (хозяйственное ведение и оперативное управление);
4) «обеспечительные права» – залог и удержание, вещная природа которых обычно оспаривается [97] Вместе с тем вещный характер право залогодержателя и ретентора постепенно получает и в современной отечественной литературе. В частности эту позицию теперь разделяет такой авторитетный исследователь обязательственного права, как С.В. Сарбаш (см.: Сарбаьи С.В. Элементарная догматика обязательств: Учеб, пособие. М.: Статут, 2016. С. 8).
;
5) преимущественное «право приобретения» (покупки) недвижимой вещи (или доли в праве собственности на нее).
2. Юридическая природа владения
Особого рассмотрения заслуживают предложения о признании в российском гражданском праве самостоятельного вещного права владения [98] См., например: Коновалов А.В. Владение и владельческая защита в гражданском праве. 2-е изд. СПб., 2002. С. 17 и ел.
. Как известно, в римском праве гражданско-правовой защите подлежало всякое, в том числе и фактическое (беститульное) владение вещью (possessio ). Однако владение предполагало не только фактическое господство над вещью, но и субъективный элемент – отношение владельца к вещи как к своей ( animus possessions ) или намерение присвоить ее. С этой позиции оно противопоставлялось «держанию» ( detentio ), при котором такое намерение отсутствовало даже при наличии титула (например, у владельца вещи по договору с ее собственником), а «держатели» (арендаторы, хранители, залогодержатели и т. д.) не пользовались владельческой защитой.
В германском праве римское различие владения и держания было устранено (во многом благодаря идеям Р. фон Иеринга), а для защиты всех владельцев была введена сложная система различных видов владения. Здесь различается «владение вещью как собственной» (Eigenbesitz в соответствии с § 872 BGB ), которое осуществляет либо ее собственник, либо фактический (незаконный) владелец, и «владение чужой вещью» ( Fremdbesitz ), субъект которого либо имеет на нее юридический титул (арендатор, хранитель, залогодержатель и т. д.), либо осуществляет фактическое владение ею с ведома и по указаниям собственника, например, в процессе ведения домашнего хозяйства или предпринимательской деятельности в качестве слуги, приказчика, поверенного, управляющего и т. п. (§ 855 BGB называет такое лицо «владеющим слугой» – Besitzdiener , а его владение в доктрине нередко именуется «обслуживающим владением» – dienende Besitz, Dienerbesitzjschäft) . Титульное владение чужой вещью считается также «опосредованным владением» ( mittelbarer Besitz в соответствии с § 868 BGB ), тогда как владение собственной вещью и «обсуживающее владение» – «непосредственным владением» (unmittelbarer Besitz). При «опосредованном владении» появляется возможность «двойного владения» одной и той же вещью (осуществляемого одновременно несколькими лицами).
Этому подходу следует ШГК, который в ч. 2 ст. 920 говорит о «самостоятельном владении» собственника своей вещью и «несамостоятельном владении» ( unselbstandiger Besitz) этой же вещью другими лицами, а также некоторые современные кодификации, прежде всего ГК Нидерландов, закрепивший в ст. 107 книги третьей прямое и непрямое (опосредованное) владение. Прямое и косвенное владение различается в ч. 2 ст. 33 Закона Эстонии о вещном праве 1993 г. (считающегося составной частью ГК Эстонии, готовившегося при активном участии германских консультантов). Не без германского влияния ст. 879 проекта Гражданского уложения Российской империи также предлагала различать «самостоятельное» и «производное» владение; законодательное закрепление «двойного владения» вещью встретило одобрительное отношение в тогдашней литературе [99] Покровский И.Л. Основные проблемы гражданского права. С. 232–234.
.
Поскольку фактическое владение, по меткому выражению Г. Дернбурга, «время возводит в право» (с помощью приобретательной давности), т. е. придает ему юридическое значение, еще в германской пандектистике XIX в. возникла дискуссия о том, каково юридическое значение фактического владения: является оно фактом или правом? [100] Подробнее об этом см., например: Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. С. 211 и сл.; Вороной В.В. Феномен владения в цивилистической науке // Законодательство. 2002. № 10.
Ф.К. фон Савиньи, Г. Дернбург, Б. Виндшайд и их последователи, взгляды которых были и остаются господствовавшими, рассматривали владение как сугубо фактическую власть лица над вещью, фактическое отношение, однако подлежащее правовой защите от самоуправных посягательств. Р. фон Иеринг и его сторонники придавали владению юридическое значение, считая, что его защита в большинстве случаев есть защита права собственности, а владение представляет собой не просто фактическое отношение, а юридический факт, либо даже некое защищаемое законом право или его подобие. С их точки зрения владение и право собственности находятся в тесной взаимосвязи, поскольку владение и владельческая защита в значительной мере существуют для собственности, которая «стоит за владением». Поэтому Р. фон Иеринг характеризовал владение как «фактическую сторону собственности» (Tatsachlichkeit des Eigentums ), защитой которой собственник может заранее защитить свое право «уже против первых попыток нападения».
Читать дальше