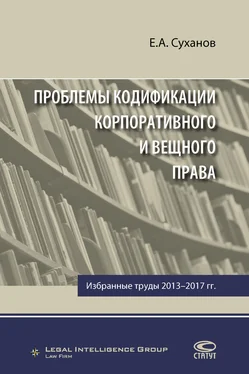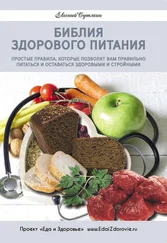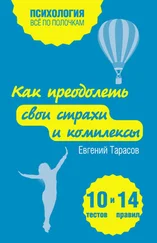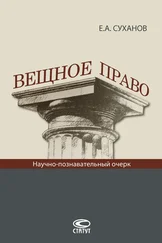В действительности здесь осуществлено очередное намеренное заимствование из американского корпоративного права, преследующее вполне конкретную цель. В американских предпринимательских корпорациях члены совета директоров (корпоративный менеджмент) защищаются от прямых исков кредиторов и миноритариев, доказывающих нарушение управляющими своих обязанностей добросовестного и заботливого ведения дел компании (или обязанности соблюдать лояльность по отношению к ней – duty of loyalty ), ссылаясь именно на тщательное соблюдение внутренних регламентов корпорации ( business judgment rule ). Бремя доказывания нарушений возлагается на истцов, а содержание этих внутренних правил, обычно разрабатываемых самими директорами (или с их непосредственным участием), во многих случаях остается неизвестным другим лицам. Нетрудно догадаться о возможном значении внутренних регламентов юридического лица в российском праве, сопоставив норму о них с правилами о серьезном усилении ответственности руководителей и членов коллегиальных органов юридических лиц, предусмотренными новой редакцией п. 3 ст. 53 и ст. 53 1ГК РФ (а также с новой ст. 65 2).
В заключение стоит упомянуть и о некоторых удивительных новшествах, неожиданно появившихся в тексте Закона № 99-ФЗ уже на последних стадиях его принятия и не обсуждавшихся ни его разработчиками, ни их оппонентами, ни даже депутатами. При этом невольно вспоминаются бюрократы советского (да и досоветского) времени, которые уж если брались келейно править законопроекты, то обычно делали это высокопрофессионально и, как правило, действительно содействовали улучшению их содержания. Увы, их современные последователи поместили в текст Закона № 99-ФЗ уточнения совсем иного рода.
Так, в соответствии с новой редакцией п. 1 ст. 53 ГК РФ органы юридического лица действуют от его имени в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 182 ГК РФ, речь в которой идет о представительстве. Из этого следует, что органы юридического лица теперь являются его представителями (по-видимому, в силу закона).
По справедливому замечанию А. Маковского, в этом тексте «невооруженным глазом видна… типичная ошибка второкурсника, не понимающего, как органы юридического лица могут действовать «от его имени» и в то же время не быть его представителями» [54] Маковский А.Л . Собственный опыт – дорогая школа / Актуальные проблемы частного права: Сборник статей к юбилею Павла Владимировича Крашенинникова. Москва – Екатеринбург, 21 июня 2014 г. / Отв. ред. Б.М. Гонгало, В.С. Ем. М.: Статут, 2014. С. 25.
.
В абз. 1 п. 1 ст. 65 1ГК РФ, содержащем законодательное определение понятия корпорации, закрепляется такой «новый» признак данного вида юридических лиц, как «формирование их учредителями (участниками) высшего органа» этого юридического лица. Указанный признак корпорации до сих пор оставался неизвестным традиционной теории корпоративного права (и разумеется, не был предусмотрен первоначальной редакцией этой нормы). Ведь в корпоративных организациях их учредители (участники) формируют не только высшие, но и все иные органы, а в унитарных организациях понятие высшего органа вообще отсутствует. Поэтому данный признак не может отличать корпорации от унитарных организаций (чему, собственно, и должно служить определение корпорации).
Строго говоря, органы всех юридических лиц изначально формируются именно их учредителями (которые в корпоративных организациях обычно становятся их участниками). Возможно, автор этой формулировки имел в виду, что учредители (участники) корпорации, по сути, всегда автоматически составляют (или образуют) ее высший орган (общее собрание). Но и это положение очевидно и не нуждается в специальном законодательном признании, тем более что оно прямо следует из других норм (например, п. 1 ст. 65 3или п. 2 ст. 67 1ГК РФ).
Новый п. 4 ст. 49 ГК РФ, упоминающий теперь не только об «отдельных организационно-правовых формах», но и о различных «видах и типах» юридических лиц, способен вызвать удовлетворение разве только у тех соискателей ученых степеней и их научных руководителей, которые привыкли посвящать диссертации сугубо филологическим изысканиям (уточнению формулировок и понятий или созданию разнообразных классификаций). Но что полезного добавляют в закон такого рода формулировки и какие разумные правила поведения в них содержатся? Едва ли такие околонаучные изыски и упражнения над текстом закона способны послужить его украшению.
Читать дальше