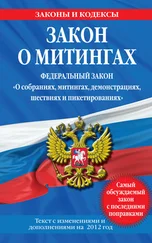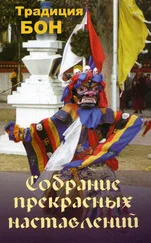В-третьих, в определенной степени взаимность права и обязанностей прослеживается и в манориальном праве, в отношениях между феодалами и крестьянами. Но «в противоположность отношениям “сеньор – вассал” взаимность прав и обязанностей помещиков и крестьян достигалась не благодаря индивидуальным присягам на службу или иным формам договорного отношения. Тем не менее мыслилось, что верность крестьян давалась в ответ на готовность помещика придерживаться уступок, ранее дарованных им или его предшественниками, давать новые уступки по просьбе крестьян и вообще поступать с крестьянами по справедливости» [3] Там же. С. 306.
. Крестьяне, равно как и вассалы, имели право на судебную защиту, хотя, конечно, возможность реализации этого права была ограниченна.
В-четвертых, с ростом городов и торгового оборота складывалось городское и торговое право. Последнее по сути своей предполагало начала равенства и взаимности сторон. Что касается городского права, то средневековый город воспринимался как некий аналог античного полиса, как сообщество граждан на основе права, хотя нацеленность той или иной системы прав и обязанностей зависела от корпорации или сословия, к которому принадлежал гражданин.
В-пятых, отношения между сословиями также не носили одностороннего характера. Каждое из них наделялось соответствующими правами и обязанностями по отношению к власти и другим группам и выступало в виде квазиавтономного общества со своей собственной нормативной системой, построенной на началах взаимности и равенства.
Итак, с одной стороны, в вертикальных отношениях власти и подчинения действует договор, определяющий права и обязанности сторон, с другой – внутри каждой группы отношения строятся по принципу взаимности и равенства. Таким образом, средневековое общество было в достаточной степени дифференцированно, светская власть ограничивалась церковью, сословиями и, наконец, самим народом как источником власти. Уже папа Григорий VII в 1089 г. утверждал, что правитель связан с народом своего рода договором. Впоследствии эта идея развивалась глоссаторами, полагавшими, что король – это quasi procurator (как бы представитель) народа. К христианскому правителю предъявлялись морально-юридические требования: поддерживать мир, справедливость, общее благо. Нарушающий их становился тираном и лишался морального и юридического права осуществлять власть над подданными.
Превращение западноевропейского короля-сюзерена в короля-суверена и складывание абсолютистских государств коррелировало с развитием гражданского общества и, как это ни покажется парадоксальным, с раскрепощением сословий (в отличие, например, от российского абсолютизма), т. е. общество и государство обособлялись. У теоретиков государственного суверенитета Ж. Бодена, Г. Гроция, даже Т. Гоббса отстаивание принципа суверенности государства не означало стремления к подавлению гражданского общества. Более того, государство предназначалось для обеспечения действия права в общественной жизни. Так, Гоббс, наиболее последовательный абсолютист, постоянно подчеркивающий назначение неограниченности государственной власти, в то же время как аксиому принимал утверждение о том, что ее всеохватность на многие отношения распространяться не может. Например, это «свобода покупать и продавать или иным образом заключать договоры друг с другом, выбирать местожительство, пищу, образ жизни, наставлять детей по своему усмотрению и т. д.» [4] Гоббс Т. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 165.
Гоббсу даже не приходит в голову мысль о том, что суверен может хотеть вмешиваться в частную жизнь своих подданных.
Постепенно складывалась единая западная правовая культура, распространившаяся и на континентальную, и на островную Европу. Несмотря на известные различия между романо-германской правовой системой и системой общего права, они покоились на единых социально-политических, экономических и, соответственно, мировоззренческих основаниях. Право во многом рассматривалось как традиционный порядок жизни, как нечто «естественное», но в то же время признавалась необходимость «сделанного» права как эманации воли суверена. В этом смысле в европейском сознании уже была заложена возможность возникновения юридического позитивизма. Наряду с этим признавалось наличие некоего универсального экуменического права, стоящего над местными традициями и законами, т. е. права римского, выступавшего в образе идеального наднационального права. Поэтому Западная Европа воспринимала себя как jus cummunity, как единое правовое пространство. В этих условиях и начинается становление европейской юридической науки. Начало этого процесса можно отсчитывать от основания Болонского университета в 1087 г., первым профессором права которого был знаменитый знаток римского права Ирнерия.
Читать дальше
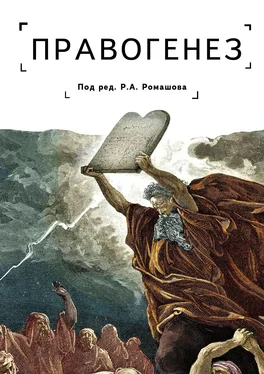

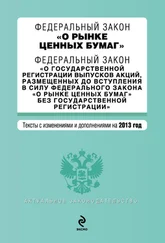
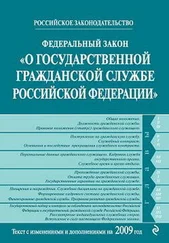


![Коллектив авторов - Испытание реализмом [Материалы научно-теоретической конференции «Творчество Юрия Полякова - традиция и новаторство» (к 60-летию писателя)]](/books/402269/kollektiv-avtorov-ispytanie-realizmom-materialy-nauchno-teoreticheskoj-konferencii-tvorchestvo-yuriya-polyakova-tradiciya-i-novatorstvo-k-60-letiyu-pisatel-thumb.webp)