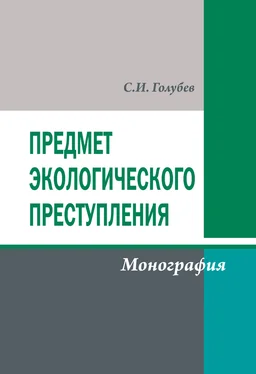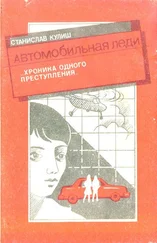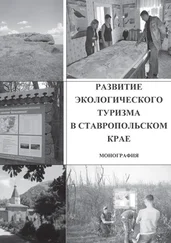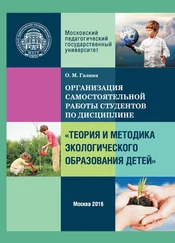Между тем, как отмечал А.Н. Трайнин, «отождествление предмета преступления с его объектом неизбежно должно приводить к одному из следующих глубоко ошибочных утверждений: или объектом преступления оказываются товары спекулянта, одурманивающие вещества, взятки и т. п., или же все эти элементы состава оказываются без определенного места и значения в системе элементов состава преступления: это и не объект, и не предмет. Неустранимо встает вопрос: что же они собой представляют? Таким образом, противоречащее закону отождествление предмета преступления с его объектом, внося путаницу в понимание состава преступления и его элементов, отнюдь не может содействовать укреплению законности» [18] Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления // Избранные труды. СПб., 2004. С. 125.
.
В качестве самостоятельных уголовно-правовых явлений объект и предмет преступления в теории уголовного права начали признаваться с проникновением в науку нормативистской теории права. Первоначально контуры такого подхода были обрисованы Л.С. Белогриц-Котляревским: «…объектом преступления с формальной стороны является правопорядок государства. С материальной же стороны объектом преступления являются те жизненные блага или интересы, которые охраняются юридическими нормами» [19] Белогриц-Котляревский Л.С. Конспект курса уголовного права. Киев, 1892. С. 146.
. Таким образом, автор выделял объект преступления, понимаемый им как установленный в государстве правопорядок, и материальное выражение объекта, т. е. предмет преступления, в качестве которого выступали различного рода жизненные блага. При этом следует обратить внимание еще на одно обстоятельство. Л.С. Белогриц-Котляревский точно подметил двойственную социальную направленность любого преступного деяния: оно нарушает, с одной стороны, общее право (правопорядок), а с другой стороны – частное право (интересы конкретных лиц).
На указанную особенность обращал внимание и Н.Д. Сергеевский, который полагал, что «…возникает как бы двойственность объекта преступных деяний: во-первых, в качестве объекта представляется, ближайшим образом, непосредственный предмет посягательства, а затем, во-вторых, отвлеченный интерес всего общежития, нарушенный неисполнением соответствующего предписания закона. Только соединение обоих моментов образует понятие объекта и, вместе с тем, обосновывает собою состав преступного деяния: нарушение нормы закона невозможно без посягательства на конкретные блага или интересы…» [20] Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право. Пособие к лекциям. Часть Общая. СПб., 1900. С. 230, 231.
.
По мнению Г.П. Новоселова [21] См.: Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. М., 2001. С. 12.
, впервые более или менее четко вопрос о соотношении объекта и предмета преступления был поставлен А.Н. Круглевским [22] См.: Круглевский А.Н. Имущественные преступления. М., 1915.
. Последний выделял два подхода к их трактовке, сформировавшихся к началу прошлого века в теории уголовного права. Согласно первому из них «…объектом юридической охраны… признается тот предмет, на который посягает отдельное преступление, конкретное воплощение правового блага, то фактическое отношение, изменить которое имело в виду лицо действующее, решаясь на преступление, охраняемое правом состояние, которое повреждается или ставится в опасность преступлением…». В соответствии со вторым подходом «объектом действия признается предмет, относительно которого учинено преступление или который должен быть создан преступлением для того, чтобы возникло характерное для данного деликта посягательство на предмет юридической охраны… предмет фактического воздействия субъекта, действующего в предположении, что он посягает на то или иное конкретное благо… непосредственная цель действий индивида» [23] Там же. С. 13, 14.
.
Таким образом, автор выделяет, во-первых, объект защиты (объект преступления), во-вторых, объект действия (предмет преступления). Характеристика их соотношения в первом приближении соответствует современному пониманию соотношения объекта и предмета преступления [24] Подробнее об этом см.: Новоселов Г.П. Указ. соч. С. 13–16.
.
Точка зрения А.Н. Круглевского в советском уголовном праве поддерживалась А.А. Пионтковским, считавшим, что «объект действия – с этой точки зрения – всегда предмет нашего чувственного восприятия (человек, имущество). При этом так называемые формальные преступления признаются не имеющими объекта действия (предмета преступления. – Прим. авт .). Объектом защиты (объектом преступления. – Прим. авт .) выступают государственные интересы или интересы отдельного лица, которые служили… основанием для установления соответствующих карательных санкций. Это не материальный объект, а всего лишь мыслимый, абстрактный» [25] См.: Пионтковский А.А. Уголовное право. С. 152.
.
Читать дальше