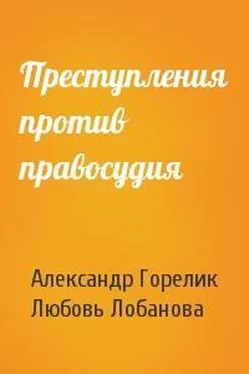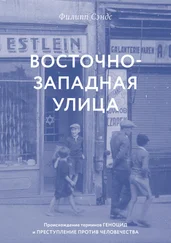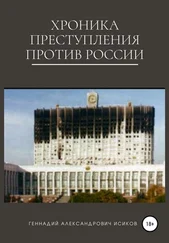Обособление анализируемых составов в отдельные структурные элементы уголовно-правового акта присуще отнюдь не только российскому законотворчеству. Тенденция признания необходимости самостоятельной защиты правосудия уголовно-правовыми средствами в последние годы наметилась и в законодательстве некоторых зарубежных стран.
Наглядным примером в этом отношении является УК Франции, вступивший в силу в 1994 г. Если в ранее действовавшем Code penal 1810 г. рубрикация «Преступления против правосудия» отсутствовала, то в новом французском УК содержится глава, именуемая «О посягательствах на деятельность суда» (глава 4 раздела III), объединяющая три отдела:
1. О воспрепятствовании судебному преследованию.
2. О воспрепятствовании отправлению правосудия.
3. О посягательствах на судебную власть.
Безусловно, подобный подход к решению проблемы уголовно-правовой охраны соответствующей группы общественных отношений является не единственным. Так, в УК Германии раздела, сходного с гл. 31 УК РФ, нет. Немецкий исследователь Томас Формбаум (Thomas Vormbaum) пишет, что термин «Rechtspflegedelikte» (Преступления против правосудия) не упоминается ни в одном промежуточном заголовке, ни в одном параграфе, что в комплексе «защита правосудия» упорядочены лишь некоторые деликты. Черта защиты правосудия видна только применительно к «Aussagedelikte» (криминальные показания), сгруппированным и выделенным законодателем [74] См.: Vormbaum Thomas. Der strafrechtliche Schutz des Strafurteils. Untersuchungen zum Strafrechtsschutz des strafprozessualen Verfarenzieles. Berlin, 1987. S. 8-10.
. Тот же автор, однако, отмечает, что между немецкими учеными достигнут консенсус о существовании понятия «Rechtspflegedelikte», хотя и считается спорным вопрос о принадлежности тех или иных деяний к кругу этих преступлений [75] См.: Там же.
.
Но, если в ФРГ упомянутой категорией оперируют только в теории, то в России соответствующий термин употреблен законодателем в названии главы Уголовного кодекса, содержащей внушительное количество статей (23).
Представляется, что структурное обособление составов преступлений против правосудия в рамках УК РФ является не случайным шагом российского законодателя, а предпринятым в результате поиска эффективных средств дифференциации оснований и пределов уголовной ответственности и продиктованным необходимостью учета своеобразия существенных признаков рассматриваемых посягательств.
§ 2. Общая характеристика преступлений, включенных в гл. 31 УК РФ
Давно уже было отмечено ключевое значение объекта преступления для решения вопросов уголовного права. Ученые подчеркивали, что без определения такового нельзя познать сущность общественно опасного посягательства [76] См., например: Коржанский Н. И. Объект посягательства и квалификация преступлений Волгоград, 1976. С 5.
, что преступные посягательства различаются между собою ценностью общественных отношений, нарушаемых ими [77] См., например: Демидов Ю. А. Юридическая и моральная оценка преступления // Советское государство и право. 1970 № 2. С. 90.
. Обращалось внимание на зависимость между ошибками в установлении объекта преступления и неправильной квалификацией содеянного [78] См.: Никифоров Б. С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М, 1960. С 6.
. Обосновано также, что свойства объекта посягательства позволяют уяснить содержание и признаки других элементов состава преступления [79] См : Коржанский И И. Указ. соч. С. 7.
. Многие из специалистов при этом в качестве базовой категории для выведения дефиниции понятия объекта преступления использовали категорию «общественные отношения» [80] См., например: Никифоров Б. С. Указ, соч.; Пионтковский А. А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М., 1961.
. В последнее время все чаще в печати высказываются иные мнения. Активизируются концепции объекта — правового блага, объекта — интереса [81] См.: Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. М., 1996. С. 149.
. Предлагается, в частности, понимать под объектом преступления «охраняемые уголовным законом социально значимые ценности, интересы, блага, на которые посягает лицо, совершившее преступление, и которым в результате совершения преступного деяния причиняется или может быть причинен существенный вред» [82] Курс уголовного права Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой и И. М. Тяжковои. М., 1999. Т. 1: Учение о преступлении С. 202.
. Мы же солидарны с теми, кто разделяет традиционную позицию [83] См., например: Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. М., 1997. С. 183-185; Уголовное право России. Часть Общая. Учебник / Под. ред. Л. Л. Кругликова. М., 1999. С. 119; и др.
. Так, Р. Р. Галиакбаров, оценивая иные суждения, обращает внимание на то, что «в конечном счете они не выходят за пределы устоявшихся в теории уголовного права решений проблемы объекта преступления» [84] Галиакбаров Р. Р. Уголовное право. Общая часть: Учебник. Краснодар, 1999. С. 96.
. Действительно, если мы говорим об объекте преступления как о социальном благе, то предполагается, что нечто должно быть признано таковым. А это вряд ли возможно вне рамок общественных отношений. Если мы рассуждаем об объекте преступления как о каком-либо интересе, то за последним явственно вырисовывается социальная связь, без которой данный интерес не может быть реализован.
Читать дальше