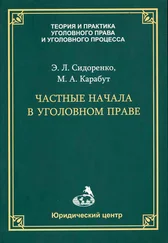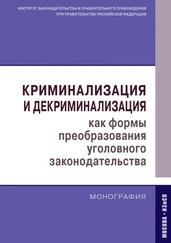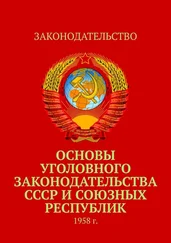Таким лицам не свойственна антиобщественная установка, но при этом для них характерно отсутствие устойчивых нравственных принципов. Преступник данного типа принимает решение совершить преступление не по убеждению в его правильности, а в результате того, что «не обладает достаточной выдержкой, чтобы продолжить тщательное обдумывание решения в условиях, затрудняющих выбор и создающих эмоциональное напряжение» [150].
Формирование его мотивов проходит следующие этапы.
Вербальная или физическая агрессия жертвы вызывает у будущего преступника определенные отрицательные состояния – досаду, обиду, негодование, злость, ярость, с появлением которых и начинает зарождаться мотив.
Потребность устранить психическое напряжение приводит к формированию абстрактной цели: что надо сделать, чтобы удовлетворить возникшее желание наказать обидчика, унизить его, навредить, найти способ сохранить чувство собственного достоинства. Во многом выбор этой цели будет определяться воспитанностью человека и его опытом.
Вторая стадия формирования мотива связана с поиском конкретного пути и средства достижения намеченной абстрактной цели. Здесь могут сыграть роль такие качества субъекта, как драчливость и скандальность.
Пропустив все способы через «внутренний фильтр», субъект приходит к третьей стадии – он принимает решение. На этом процесс формирования мотива завершается.
Как отмечает Е. П. Ильин, «у субъекта появляется основание агрессивного поведения, которое объясняет, почему он пришел к пониманию необходимости такого поведения, что он хочет достичь, каким способом и, может быть, – ради кого. Это основание в ряде случаев может выполнять и роль „индульгенции“, оправдывающей и разрешающей совершение внешне неблаговидного поступка» [151].
Мотив совершения преступления не всегда формируется так сложно, мотивационный процесс может быть свернутым, особенно за счет второй стадии.
Некоторые люди привыкли в определенных конфликтных ситуациях реагировать присущим им стереотипным способом: драться, ругаться. У них может не возникать особых сомнений, как реагировать на внешнюю агрессию. Поведение таких людей определяется их агрессивной мотивационной установкой, которая определяется в психологии как «латентное состояние готовности к удовлетворению потребности; как задание для себя или намерение, которое будет осуществлено при появлении нужной ситуации, повода» [152].
Как показали наши исследования, мотивы спровоцированных преступлений носят в большинстве случаев личный характер. Так, по мотивам мести было совершено 59,5 % преступлений, 11,2 % – с целью избавиться от потерпевшего или проучить его; 22,5 % – из желания защитить общественно полезный интерес.
При этом для различных возрастных групп характерна различная мотивация. Если местью руководствовалось 45 % лиц возрастной группы от 25 до 40 лет, то лицам в возрасте от 18 до 25 лет она была вовсе не свойственна.
Содержание мотивов свидетельствует о том, что в большинстве случаев конфликтная ситуация, предшествующая преступлению, была относительно длительной. Допреступные взаимоотношения потерпевшего и преступника аккумулировали отрицательные эмоции последнего, на основании которых постепенно формировался мотив преступления.
В зависимости от характера агрессии среди рассматриваемой категории преступников, как ранее среди потерпевших, можно выделить следующие типы:
1) привычно-неконтролируемый агрессор (32 %);
2) ситуативно-оборонительный (37 %). Субъект на высоте эмоционального состояния не успевает соотнести свои поступки с морально-этическими и социальными нормами. В силу чего совершение преступления воспринимается им как субъективно оправданное;
3) преступник, агрессия которого обусловлена аффективной целью (20 %). Преступлению, как правило, предшествуют длительные конфликтные отношения субъекта и жертвы. При этом инициатива в обострении конфликта обычно принадлежит потерпевшему;
4) катастрофический агрессор (11 %). Преступления таким лицом совершаются в экстремальных условиях, являющихся витально опасными. Инициатором конфликта выступает потерпевший. При этом его действия содержат прямую провокацию агрессии, выступают источником реальной угрозы. Преступник долго сохраняет самоконтроль, выдерживает большие эмоциональные нагрузки, «держится до последнего», но последующий «срыв» носит очень глубокий и разрушительный характер. В последующем у субъекта нередко отмечается отчужденность собственных действий.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу