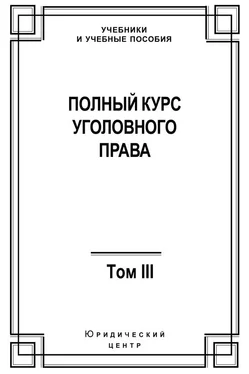Примером обоснованной переквалификации содеянного с грабежа на кражу является дело Захарищева, который был признан виновным в том, что вместе со своей знакомой Макеевой пришел в комнату, где ранее бывал с разрешения знакомой Ляпиной, и похитил стереомагнитолу с четырьмя кассетами, принадлежащими матери Ляпиной. Исходя из того, что он совершил указанные действия в присутствии Макеевой, органы следствия и суд квалифицировали их как открытое хищение.
Удовлетворяя протест о переквалификации, Верховный Суд исходил из того, что Макеева – знакомая Захарищева. Договорившись между собой, они пришли в комнату, где раньше бывал Захарищев, с целью распить спиртное и остались там ночевать. Захарищев, увидев под кроватью магнитолу, предложил Макеевой совершить кражу, но она отказалась и впоследствии безразлично отнеслась к его преступным действиям. Таким образом, к свидетелю Макеевой не относится понятие «постороннего или другого лица», в присутствии которого совершена кража. Захарищев сознавал, что Макеева для него близкий человек, и был уверен в сохранении тайны похищения. [151]
Второй вариант тайности, связанный с похищением хотя и в присутствии каких-либо лиц, но скрытно от них, объективно требует от вора больших усилий, поскольку лишение присутствующих возможности наблюдать изъятие имущества, находящегося при них или в месте их присутствия, нередко достижимо лишь благодаря особому мастерству, каковым обладают, например, карманные воры, умеющие незаметно извлекать бумажники, снимать наручные часы, опустошать содержимое сумок, ручной клади и т. п. В определенных случаях помимо «ловкости рук» от такого вора требуется еще и умение неслышно подойти и удалиться с захваченным имуществом.
Третий вариант имеет место тогда, когда какие-либо лица наблюдают изъятие имущества, но не осознают его неправомерности, в силу чего тайной является не физическая сторона этих действий (как это имеет место в предыдущих вариантах), а их подлинный смысл. При этом в одних случаях преступник просто пользуется тем, что по причине малолетства, умственной неполноценности, опьянения или иных обстоятельств присутствующие объективно не способны понимать значение происходящего; в других – неосведомленностью окружающих о принадлежности имущества (например, при хищении вещей на вокзалах); в третьих – похитителю приходится создавать иллюзию правомерности изъятия имущества, прибегая к различного рода обманным уловкам и даже разыгрывая талантливо поставленные инсценировки, благодаря которым у окружающих складывается впечатление, что он является владельцем этог о имущества либо лицом, действующим по ег о поручению. Наблюдая изъятие предмета хищения, присутствующие при этом лица не осознают противоправного характера поведения виновного, полагая, что данное имущество завладевается лицом, обладающим на то соответствующими правомочиями.
Наконец, еще одной причиной, в силу которой изъятие имущества остается тайным, может стать бессознательное состояние или смерть потерпевшего – как естественная, так и насильственная. В последнем случае содеянное (образно, но некорректно называемое иногда «ограблением трупа») может квалифицироваться как кража лишь тогда, когда корыстное намерение воспользоваться смертью потерпевшего для завладения находящимся при нем имуществом возникло после наступления смерти, причиненной по иным (некорыстным) мотивам.
Таким образом, тайность хищения оценивается, исходя из двух критериев: объективного , т. е. внешнего по отношению к преступнику (отсутствие очевидцев или наличие обстоятельств, при которых присутствующие не осознают либо заведомо не имеют возможности осознавать преступный характер действий, на что похититель и рассчитывает), и субъективного , т. е. внутреннего, основанного на определенных объективных предпосылках убеждения лица в том, что совершаемое им незаметно или непонятно для окружающих. При этом решающим для установления тайности является субъективный критерий – представление виновного о том, что имущество изымается им незаметно. Отсюда стремление лица завладеть имуществом тайно, даже если его действия оказались заметными для других, не дает оснований квалифицировать содеянное как открытое хищение, если похититель, исходя из окружающей обстановки, не осознавал факта его обнаружения, считая, что действует скрытно. [152]И наоборот, тайное похищение отсутствует тогда, когда преступник был убежден, что его действия очевидны для владельца имущества или посторонних лиц, хотя в действительности они остались незамеченными.
Читать дальше