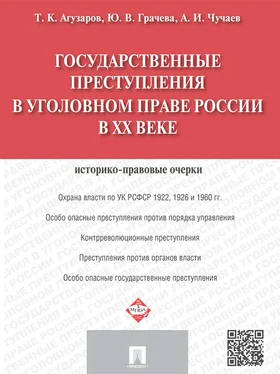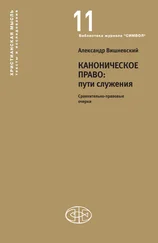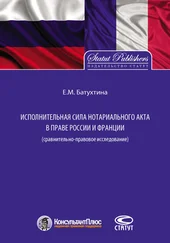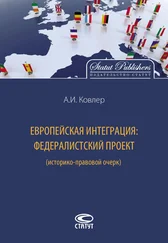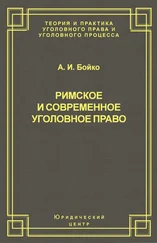Отмечая указанные обстоятельства, А.Я. Эстрин писал, что ст. 68 УК РСФСР необходимо изложить в новой редакции: «Укрывательство или пособничество персонально контрреволюционерам или их организациям, не могущее быть рассматриваемым как укрывательство или пособничество какому-либо акту этой организации, направленному к осуществлению ее целей» [100]. Вряд ли предлагаемый А.Я. Эстриным вариант сделал бы норму более понятной. Неясно основное: о каком пособничестве, не связанном с конкретным деянием, идет в этом случае речь? В уголовно-правовом смысле пособничество не может быть вообще, оно всегда предполагает определенное преступление, охватываемое, к тому же, умыслом пособника. А.А. Пионтковский предположил, что «законодатель в статье 68 хотел специально выделить пособничество к приготовительным контрреволюционным действиям, которые лишь по исключении из общего правила (приготовление в силу статьи 12 не караются [101]) являются… частично наказуемыми при контрреволюционных преступлениях» [102]. Однако и такое толкование не снимает многих вопросов, главный из которых заключается в невозможности отграничения преступлений, предусмотренных ст. 61 и 68 УК РСФСР.
В ст. 68 УК РСФСР укрывательству придается значение самостоятельного деяния. Но пособничество предполагает действия по сокрытию преступника или следов преступления. В связи с этим можно сделать два предположения: во-первых, выделение укрывательства излишне, так как оно полностью охватывается понятием пособничества; во-вторых, законодатель вкладывал иной смысл. Последнее обусловлено следующими соображениями. Укрывательство как проявление соучастия предполагает заранее полученное исполнителем обещание лица сделать это, в законе о таком обещании ничего не говорится. Следовательно, не исключено, что имеется в виду прикосновенность к совершению преступления. Однако и это предположение может быть легко опровергнуто. При таком толковании можно прийти к выводу, что укрывательство как составная часть пособничества считалось ненаказуемым. Исходя из общего отношения к контрреволюционным преступлениям, вряд ли такой смысл мог хотя бы предполагаться законодателем.
В литературе 20-х гг. прошлого века к соучастию также относили: 1) антиреволюционные пропаганду и агитацию; 2) призывы к невыполнению распоряжений власти; 3) пропаганду и агитацию в пользу международной буржуазии; 4) изготовление и распространение антиреволюционной литературы. Такой подход основывался в первую очередь на зарубежном законодательстве.
А.А. Пионтковский, как нам представляется, был несколько непоследователен. С одной стороны, пропаганду и агитацию он относил к соучастию в контрреволюционных преступлениях (к подстрекательству к совершению контрреволюционного преступления независимо от его результатов), с другой стороны, признавал их delictumsuegeneris, т. е. преступлением особого рода [103].
Подстрекателем по УК РСФСР считается лицо, которое склонило к совершению конкретного деяния; этим и отличаются агитация и пропаганда от соучастия в преступлении.
Согласно ст. 69 УК РСФСР указанное преступление заключалось в пропаганде и агитации, которые выражались в призыве к свержению власти Советов путем насильственных или изменнических действий, активного или пассивного противодействия Рабоче-Крестьянскому правительству либо массового невыполнения возлагаемых на граждан воинской или налоговых повинностей.
В литературе агитацию и пропаганду предлагалось различать, во-первых, по количеству выдвигаемых идей, во-вторых, числу лиц, которым они были адресованы. Под агитацией понималась деятельность, имевшая целью донести до масс (неопределенного круга лиц) одну или несколько идей; пропагандой – деятельность, имевшая целью донести до одного или нескольких лиц большое количество идей. «…Контрреволюционная пропаганда или агитация, содержащаяся в указанных в статье 69 призывах, охватывает как призывы (пропаганда) в устной или письменной форме, направленные к определенному ограниченному кругу лиц (индивидуальное подстрекательство), так и призывы (агитация), направленные к неопределенному кругу лиц. Таким образом, агитация и пропаганда охватывают всякое индивидуальное или массовое подстрекательство к учинению описанного в статье деяния. Агитация и пропаганда могут быть публичными и непубличными. Если агитация носит обычно публичный характер, то пропаганда носит обычно непубличный характер» [104]. В этом разъяснении наглядно проявилась противоречивость определения А.А. Пионтковским юридической природы антиреволюционной агитации и пропаганды.
Читать дальше