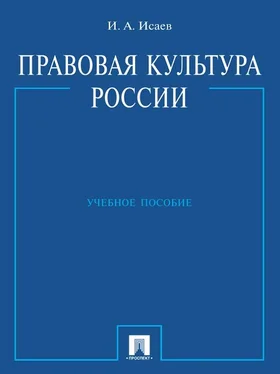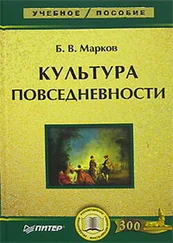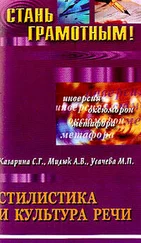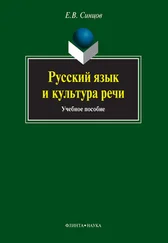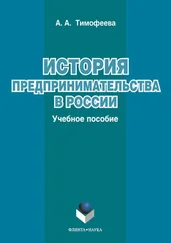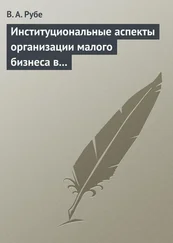Где законы хорошие – там и подданные довольны, и чужеземцы хотят туда прийти. А где законы жестокие – там свои собственные подданные жаждут перемены правления и часто изменяют, если могут, а чужеземцы боятся приходить. О, государь, управляй людьми так, чтобы они не хотели перемен. <���…>
Праведная королевская власть превращается в тиранство не столько из-за лютого мучительства, сколько из-за грабительских законов. Ибо какой-либо король может быть тираном и без грабительских законов, но государственный строй будет не тиранским, а справедливым правлением. А при грабительских законах не может быть того, чтобы и правление не было тиранским и король не был тираном. То есть если какой-либо король самых богатых людей без (всякой их) вины открыто грабит и самых сильных убивает, но не подрывает благих народных законов, то, хотя сам король – злодей, людодерец и тиран, но государственный строй не изменяется и не становится тиранством, и после смерти этого тирана снова наступит благое правление.
Юрий Крижанич
В области развития юридической техники Соборное уложение пошло значительно дальше судебников. Здесь уже можно говорить об использовании таких приемов, как систематизация, кодификация и инкорпорация правовых норм. Был предусмотрен правовой механизм обновления кодекса. Комиссия князя Оболенского, работавшая над составлением Уложения, тщательным образом изучала европейские техники кодификационных работ и была готова сформулировать определенные теоретико-правовые основания для обоснования своих практических решений. Наказы депутатов стали также одним из важнейших источников Уложения.
Однако стратегической ошибкой составителей Уложения стало их стремление включить все возможные ситуации и отношения в единую систему регуляторов, в единый кодекс, единый правовой акт – Уложение. Реальная жизнь очень быстро показала недостижимость такой цели. Уже через десять – двадцать лет нормы Уложения стали дополняться так называемыми новоуказными статьями, ближе стоящими к действительности и текущей практике, статьями Новоторгового устава и большим количеством конкретных царских указов.
3. Абсолютизм: регламентация и кодификация (XVIII в.)
Фундаментальные особенности российского абсолютизма (тот факт, что он возникает в период наибольшего развития крепостного права и что его социальной базой является исключительно крепостническое дворянство) не могли не сказаться и на особенностях российской правовой культуры XVIII столетия. Тотальное вмешательство государства во все области общественной и даже личной жизни (указания на то, какие платья носить, когда гасить свет в доме, какие танцы танцевать на ассамблеях и т. п.) породило в правовой культуре специфический этатизм. Для «полицейского» государства первой четверти XVIII в. было характерным не только тщательная административная регламентация всех сторон жизни и порядка в целом, но и подробное правовое регламентирование хозяйственной и партикулярной деятельности. Наряду с монополиями в экономике (государственные мануфактуры и заводы) государство формировало три главных сферы своего существования: сильную армию, разветвленную и всепронизывающую налоговую систему и огромный бюрократический аппарат управления и контроля.
В начале века ситуацию усугубляла долгая Северная война. Целый ряд административных инстанций приобрел вполне военную форму («полковые дворы»), юрисдикция военных судов распространялась на гражданских лиц, нормы военного законодательства (Воинские артикулы 1715 г.) применялись к гражданским лицам независимо от того факта, что Соборное уложение 1649 г. оставалось действующим сводом.
Самодержавная монархия приняла форму империи, обзаведясь целым набором заимствованных из европейской политической и правовой практики институтов и порядков. У страны, с которой Россия воевала, она заимствовала такие институты и органы, как Сенат и коллегия, у присоединенных к ней новых территорий (ставших Эстляндской, Лифляндской и Курляндской губерниями) Россия позаимствовала опыт и модели работы органов местного управления.
Абсолютная монархия предполагала почти полную сакрализацию персоны монарха. В его руках сосредоточивались все нити власти и управления. Им регламентировался статус и правоспособность всех сословий.
Царь судия и подобен он Богу. Того бо ради и всякой вещи за имя царское от мирских нельзя быть неотменной, ибо в суде у царя, яко у Бога, нет лица ни богату, ни убогу, ни силну, ни маломочну, всем суд един, и то стал быть суд Божий. И аще денежное дело серебряных и медных денег обновитца, к тому ж и таможенные зборы и питейная продажа изменитца, то, я чаю, что на самую малую цену миллиона по три и по четыре на год сверх нынешних настоящих зборов приходить будет.
Читать дальше