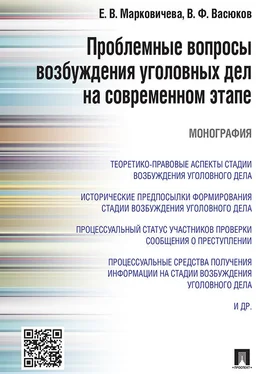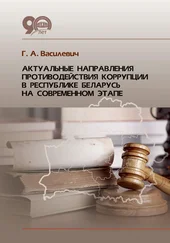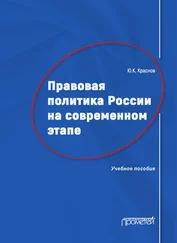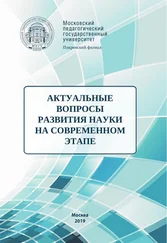Опираясь на практику рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 125 УПК и данные официальной статистики, некоторые авторы приходят к выводу о том, что существующий порядок возбуждения уголовного дела представляет собой мощнейший механизм, используемый во многих случаях в целях укрытия преступления.
В качестве довода необходимости ликвидации стадии возбуждения уголовного дела указанные авторы приводят: резкое сокращение повторных производств по одним и тем же сообщениям о преступлениях; объема процессуальных действий, количества материалов, их отражающих; экономию материальных затрат; сокращение срока от поступления сообщения о преступлении до принятия по нему итогового решения 24.
Также стоит отметить, что апологетами данной позиции стали С. И. Гирько и А. П. Кругликов, которые, обосновывая свое мнение, в том числе описывают процессуальные механизмы, получившие отражение в нормах Устава уголовного судопроизводства Российской империи 1864 г. (УУС). Авторы подчеркивают, что, согласно нормам ст. 303 УУС, достаточным поводом для начатия следствия являлась заявленная жалоба потерпевшего. А поводы к принятию решения о начале дознания раскрывались в ст. 253 УУС: «Когда признаки преступления или проступка сомнительны или когда о происшествии, имеющем такие признаки, полиция известится по слуху (народной молве) или вообще из источника не вполне достоверного, то, во всяком случае, прежде сообщения о том по принадлежности она должна удостовериться через дознание: действительно ли происшествие то случилось и точно ли в нем заключаются признаки преступления или проступка» 25.
Между тем небезосновательной следует признать позицию А. Г. Волеводза, согласно которой ориентировочная цена упразднения стадии возбуждения уголовного судопроизводства будет составлять не менее половины расходов бюджета страны на ближайшие годы. Возможные потери от упразднения стадии возбуждения дела, по мнению ученого, в отечественном уголовном процессе могут оказаться куда более значительными, чем показывает приведенный подсчет. При этом «следователи и дознаватели просто не справятся с расследованием столь объемного потока уголовных дел, а в условиях повсеместного сокращения госаппарата, в том числе кадров правоохранительных органов, начнутся поиски выхода из этого. А выход будет один – еще более масштабное уклонение от приема заявлений о преступлениях, сокрытие их от учета» 26.
В свою очередь, в противовес сказанному можно привести доводы Ю. П. Боруленкова о том, что в данном случае нельзя вести речь о нарушении отказом в возбуждении уголовного дела конституционных прав заявителей на доступ к правосудию, поскольку гражданин имеет возможность защищать свои нарушенные, по его мнению, права в гражданском порядке 27.
Не можем оставить без внимания предложение – перенять опыт соседних государств, обновивших свои УПК и ликвидировавших стадию возбуждения уголовного дела. В свою очередь:
• отказаться от существующих понятий «повод» и «основание»;
• регистрировать сообщения о преступлении в Реестре досудебных производств, что автоматически предполагает производство полицейского «расследования-розыска»;
• регистрировать только сообщения о преступлениях, подлежащих публичному (частно-публичному) уголовному преследованию, и т. д.
Не вдаваясь в углубленный анализ предложенной кардинальной трансформации УПК РФ, отметим, что разработчиками данной матрицы «открытия уголовного дела» предлагается отдать на откуп правоохранительным органам решение о необходимости регистрации сообщения. Так, А. С. Александров и С. А. Грачев приходят к тому, что «регистрация сообщения о преступлении должна осуществляться во всех случаях, когда в наличии признаков преступления отсутствуют сомнения или имеется необходимость для проверки поступившего сообщения. Отказ в регистрации возможен только тогда, когда из поступившего сообщения (или приложенных к нему заявителем материалов) можно сделать однозначный вывод об отсутствии преступления (по аналогии с основаниями для отказа в возбуждении уголовного дела)» 28. Можно только представить, как будет правоприменителем интерпретироваться тезис о «сомнительности», принимая решение о возможности регистрации сообщения о правонарушении пограничной ответственности.
Обращаясь к опыту правоприменения уголовно-процессуального законодательства Украины в части рассмотрения сообщений, считаем необходимым подчеркнуть следующие моменты: во-первых, несмотря на формальную отмену доследственной проверки, на стадии регистрации все же происходит фильтрация всех сообщений сквозь «сито» указанной «сомнительности»; во-вторых, проверочные процессуальные мероприятия не стали атавизмом, например п. 8 ст. 95 УПК Украины указывает на то, что «стороны уголовного судопроизводства, потерпевший имеют право получать от участников уголовного производства и других лиц при их согласии объяснения, которые не являются доказательством»; в-третьих, нагрузка на следственные подразделения увеличилась в разы, это при том, что штат следователей увеличился только на 25 % 29. В итоге пессимистичные прогнозы, которые делались учеными при обсуждении проекта нового УПК Украины, в основном сбылись. В отсутствие надлежащего финансирования государственных служб, искусственно созданный новый порядок «открытия уголовного дела» лег непосильной ношей на плечи следователей, качество проведения необходимых процедур по расследованию преступного события ухудшилось.
Читать дальше