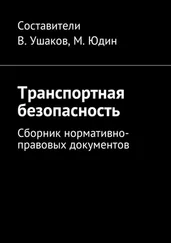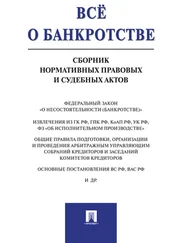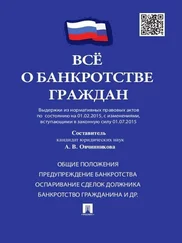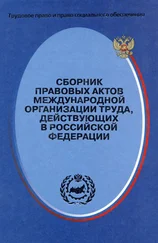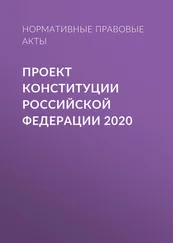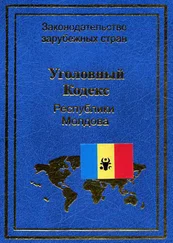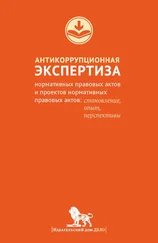corpus juris romani – свод римского права
de lege ferenda – с точки зрения законодательного предложения
ex officio – официально
jus cogens – сверхимперативные нормы международного права
lex posteriori derogat legi priori – последующий закон отменяет действие предыдущего
lex specialis – специальный закон, специальная норма
lex specialis derogate legi generali – специальный закон отменяет действие общего
lex superior – вышестоящий закон
lex superior derogat legi interior – вышестоящий закон отменяет действие нижестоящего
nota bene – обратите внимание на значимость
par in parem non habet imperium – равный над равным власти не имеет
primus inter pares – первый среди равных
pro et contra – за и против
ratio scripta – «писаный разум», смысл правового текста
specialia generalibus (non) derogant – специальное правило (не) отменяет действие общего
Принято считать, что идея иерархического строения права играет немаловажную роль в драме с названием «Правовое регулирование» в континентальной правовой традиции, поскольку предопределенная и ясная субординация источников права делает процесс конкретизации и реализации норм права и нормативных обобщений более упорядоченным. Идея lex superior derogat legi interior вошла в кровь и плоть юристов, получивших образование в Германии или России независимо от их идеологических пристрастий, и до сих пор имеет значительный вес. Более того, для среднестатистического юриста, воспитанного в континентальной правовой традиции, осознание факта наличия неясности, пробельности или противоречивости правовой иерархии – это чувствительный удар по сокровенному: идеалу правовой определенности и представлению о рациональности права. Поэтому любые значимые спорные вопросы в правовой иерархии либо вовсе игнорируются (как, например, происходит в России с вопросом об иерархическом соотношении региональных законов и федеральных подзаконных актов в сфере совместного ведения Федерации и субъектов), либо становятся предметом оживленных дискуссий, хотя и не всегда содержательных и конструктивных.
Второй вариант развития событий вокруг проблем правовой иерархии как раз применим к феномену, вынесенному в заголовок данной книги. О злободневности этой проблемы свидетельствует хотя бы то, что только за 2009–2012 гг. достаточно узкоспециализированные вопросы предметной иерархии нормативных актов исследовались более чем в 30 отечественных научных публикациях [1]. Всего же общее число научных трудов, обращающихся к проблематике предметной иерархии нормативных актов, перевалило за сотню.
Естественно, вначале следует обозначить ключевой вопрос, демонстрирующий суть указанной проблемы. Думается, его можно сформулировать следующим образом: может ли нормативный правовой акт (N), регулирующий определенную сферу общественных отношений (S) и принадлежащий к виду (n), образовать в иерархии новый уровень (n + 1) применительно к сфере S, обладая в рамках данной сферы иерархическим преимуществом над всеми иными НПА вида n? Более обобщенно, тот же вопрос можно сформулировать так: допустимо ли с доктринальных позиций увеличение числа уровней в иерархии нормативных правовых актов (НПА) [2]применительно к конкретной сфере отношений (определенному предмету правового регулирования), а при положительном ответе на него – в каких случаях целесообразно использовать указанный прием в правотворчестве и как применять такую иерархию на практике [3]?
Проиллюстрируем всю спорность и неоднозначность проблемы двумя наглядными примерами:
1) «…в статье 76 Конституции Российской Федерации не определяется и не может определяться иерархия актов внутри одного их вида, в данном случае – федеральных законов. Ни один федеральный закон в силу статьи 76 Конституции Российской Федерации не обладает по отношению к другому федеральному закону большей юридической силой.Правильный же выбор на основе установления и исследования фактических обстоятельств и истолкование норм, подлежащих применению в конкретном деле, относится не к ведению Конституционного Суда Российской Федерации, а к ведению судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Данная правовая позиция сформулирована и неоднократно подтверждена Конституционным Судом Российской Федерации» (Мотивировочная часть Определения Конституционного суда РФ от 05.11.1999 г. № 182-О «По запросу арбитражного суда г. Москвы о проверке конституционности пунктов 1 и 4 и части 4 статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»).
Читать дальше