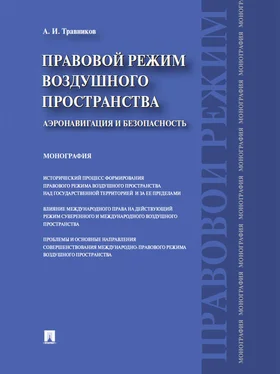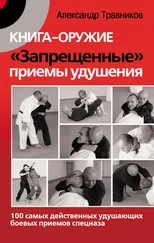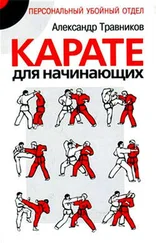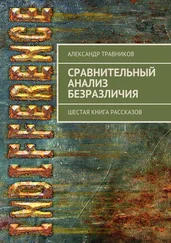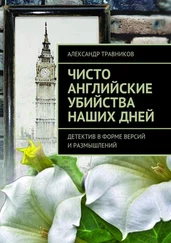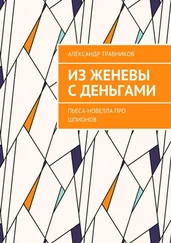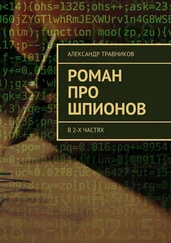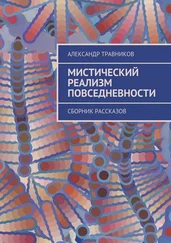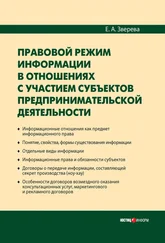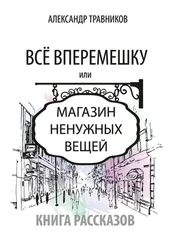Статья 25 Конвенции содержит нормы, устанавливающие обязательства для государств оказывать помощь воздушным судам, терпящим (или уже потерпевшим) бедствие в пределах его территории, а также допускать в свое воздушное пространство воздушные суда (для оказания указанной помощи) иностранного государства, где было зарегистрировано воздушное судно, терпящее (или потерпевшее) бедствие. Необходимо отметить, что ст. 25 Конвенции не содержит указаний на принадлежность терпящего бедствие воздушного судна к гражданской или государственной авиации. Кроме того, обязательства государств оказывать помощь адресованы прежде всего государственным воздушным судам, осуществляющим поисково-спасательные работы (во всем мире поисково-спасательные мероприятия примерно в 90 процентов случаев обеспечиваются при помощи государственных воздушных судов).
Заканчивая рассмотрение норм Чикагской конвенции 1944 г. (см. приложение № 2), следует констатировать, что этот договор не смог сформировать полноценный правовой режим воздушного пространства как над государственной территорией, так и за ее пределами, эта Конвенция оставила за пределами регулирования всю деятельность в воздушном пространстве, кроме полетов гражданских воздушных судов.
Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. (см. приложение № 5) [61]. Для целей настоящего исследования значительный интерес представляют положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. (см. приложение № 5), формирующие правовой режим воздушного пространства. В отличие от Чикагской конвенции 1944 г. (см. приложение № 2) Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. (см. приложение № 5) действует не только в отношении всех воздушных судов (гражданских и государственных), но и в отношении любых других летательных аппаратов (например, экранопланов и турболетов). Прежде всего эта Конвенция подтверждает суверенитет государств в отношении воздушного пространства над их территориальным морем (п. 2 ст. 2), а также, что особенно важно, определяет допустимый предел внешней границы этого моря, а следовательно, и суверенного воздушного пространства прибрежных государств, составляющий 12 морских миль (ст. 3) и порядок установления этой границы (ст. 4, 5, 6 и 7). Конвенция еще раз подтвердила (после Женевской конвенции 1958 г. [62], ст. 2) основополагающий принцип свободы открытого моря. Еще в 1958 году В. С. Верещетин справедливо утверждал, что «уже сам термин “открытое море” говорит о том, что оно открыто, т. е. свободно, для всех государств на равных началах» [63]. Для воздушного пространства над открытым морем установлен принцип свободы полетов для всех прибрежных государств и государств, не имеющих выхода к морю (п. 1 ст. 87). При этом Конвенция обязывает государства должным образом осуществлять эту свободу, учитывая заинтересованность других государств в пользовании свободой полетов в открытом воздушном пространстве (п. 2 ст. 87). Можно предположить, что нормы статьи 87 имеют самое широкое действие и охватывают деятельность, связанную не только с полетами воздушных судов и других летательных аппаратов, но и с осуществлением иной деятельности в открытом воздушном пространстве (стрельбы, взрывные работы, катапультирование с поверхности воды и плавающих средств, строительство высотных сооружений и т. п.). Это подтверждается и ст. 88, которая предоставляет право государствам резервировать открытое море и, как представляется, воздушное пространство над ним для любой деятельности, осуществляемой в мирных целях. Практика показывает, что государства активно используют это право. При этом ст. 89 запрещает государствам претендовать на подчинение своему суверенитету какой-либо части открытого моря. Это положение, по видимому, можно отнести и к открытому воздушному пространству.
Представляется целесообразным вначале рассмотреть нормы Конвенции, устанавливающие правовой режим суверенного воздушного пространства, расположенного над территориальным морем, международными проливами и архипелажными водами. Исходя из смысла ст. 2, 34 и 49 Конвенции, государства, осуществляя суверенитет над воздушным пространством, расположенном над его территориальным морем, проливами и архипелажными водами, вправе самостоятельно устанавливать его правовой режим. Однако необходимо отметить, что при установлении такого режима для государств действуют некоторые ограничения. Прежде всего это касается допуска в воздушное пространство припроливного или архипелажного государства иностранных летательных аппаратов и права его беспрепятственного транзитного пролета. В соответствии со ст. 38 Конвенции такой пролет должен быть непрерывным и быстрым (для летательных аппаратов это означает запрещение выполнять виражи, вставать в круг, а выполнять полет по прямым установленным линиям пути на крейсерской скорости, заданной для соответствующей высоты (эшелона) полета).
Читать дальше