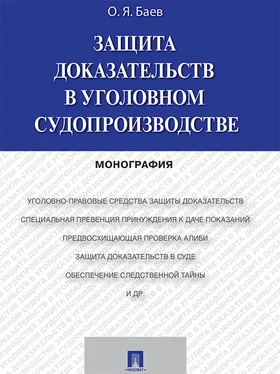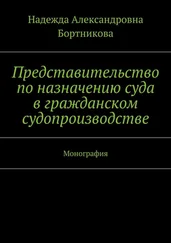Таким образом, любое уголовно-процессуальное доказательство есть информация об объекте исследования (в нашем случае, об уголовно-релевантных фактах и обстоятельствах), отвечающая в первую очередь свойству (атрибутивному признаку) допустимости: формой своего облечения, допустимой для использования в этом качестве для доказывания в уголовном процессе.
Иными словами, сколь бы значима и достоверна ни была имеющаяся в распоряжении следователя уголовно-релевантная информация, если она не собрана надлежащим субъектом доказывания и не облечена в строго предписываемую законом процессуальную форму, она не есть доказательство.
В этом, по сути своей, воплощается в судопроизводстве в целом, и в доказывании в нем в частности, диалектическая категория единства содержании и формы. Как известно, не существует содержания без формы; «форма лишена всякой ценности, – писал К. Маркс, – если она не есть форма содержания» 29.
Под формой в диалектическом материализме понимаются способы внутренней организации предмета или явления и способы его существования. Таким образом, здесь отражен объективный характер двойственности формы, в которую может облекаться содержание предмета или явления. С одной стороны, любое содержание имеет внутреннюю форму, под которой понимаются способы внутренней организации предмета или явления 30. С другой стороны, предмет или явление облекаются во внешнюю форму, выражающую способы их существования. Но эта форма, в свою очередь, имеет свое содержание, она содержательна. «В такое обобщенное понятие внешней формы, – отмечает Е. В. Дмитриев, – до известной степени вводит и понимание формы как «вида», «разновидности» некоторого предмета или процесса» 31.
Экстраполируя этот методологически важный тезис на предмет нашего исследования, скажем, что форма, в которой осуществляется формирование доказательств в уголовном деле, безусловно – и без каких-либо сомнений в том, содержательна. Сказанное относится как к установленным законом источникам формирования доказательств, так – и в такой же степени, к общим правилам производства следственных действий, порядку и тактике осуществления отдельных из них, требованиям к протоколам следственных действий 32.
Являясь формой, лишь соблюдение которой делает отраженные в ней относимые для доказывания сведения доказательствами, эти предписания отражают содержание воли законодателя, признавшего их оптимальными для уголовно-процессуального исследования преступлений всех видов во всех мыслимых ситуациях его осуществления.
Тут же заметим, что сказанное отнюдь ни в малейшей степени не означает отсутствия необходимости постоянного совершенствования действующего процессуального закона, в том числе и оптимизации формы осуществления доказывания по уголовным делам. Об этом с очевидностью свидетельствуют даже сами наименования ряда монографий, посвященных данным проблемам 33.
В тоже время формы содержания многогранны. По одному и тому же содержанию они определяются, как правило, неоднозначно, оно может существовать в различных формах.
Будем реалистами: необходимость строжайшего соблюдения процессуальной формы при формировании доказательств в ряде случаев ограничивает возможности вовлечения в уголовный процесс значительной содержательной части уголовно-релевантной информации.
Ярким примером этого является то, что значительную часть информации, имеющейся в распоряжении сотрудников оперативно-разыскных служб, в силу специфики способов и условий ее получения не представляется возможным использовать в уголовно-процессуальном доказывании. Как известно, ст. 89 УПК однозначно запрещает использование в нем результатов оперативно-разыскной деятельности, «если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим Кодексом».
А потому, формируя доказательства, следователь (другой надлежащий субъект доказывания по уголовному делу) в первую очередь должен быть формалистом в прямом и точном значении этого понятия.
На этой проблеме, в силу ее несомненной и повышенной значимости в контексте нашего исследования, следует остановиться несколько подробнее.
Давно известно, что «формализма оказывается слишком много для стороны, действующей недобросовестно, потому, что он ее стесняет, и наоборот, его слишком мало для честного человека, которого он защищает, его сложность, а также порожденная им медлительность и издержки представляются ценой, которой каждый покупает свою свободу и обеспечивает свое добро» 34.
Читать дальше