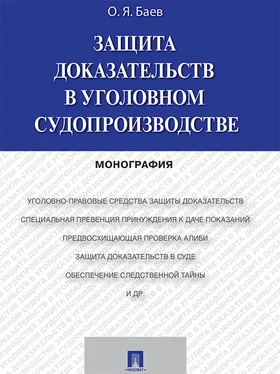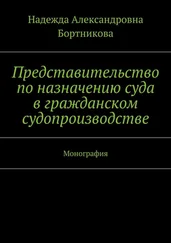Между тем ксерокопия заявления А., имеющаяся в деле, которую получил осужденный К., являющийся в то время адвокатом Л., не может быть признана доказательством по делу.
Согласно ст. 84 УПК РФ, к иным документам относятся материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или предоставленные в порядке, установленном ст. 86 УПК РФ.
В соответствии со ст. 86 УПК РФ, защитник вправе собирать доказательства путем […].
Из смысла ст. 84 и 86 УПК РФ следует, что относимые к делу сведения, полученные защитником в результате опроса частных лиц, изложенные им или опрошенными лицами в письменном виде, нельзя рассматривать в качестве показаний свидетеля или потерпевшего. Они получены в условиях отсутствия предусмотренных уголовно-процессуальным законом гарантий их доброкачественности и поэтому могут рассматриваться в качестве оснований для вызова и допроса указанных лиц в качестве свидетелей, потерпевшего или для производства других следственных действий по собиранию доказательств, а не как доказательства по делу.
Как установлено судом, имеющаяся в деле ксерокопия заявления А. получена К. (являющимся в тот момент защитником Л.) от А. без соблюдения требований уголовно-процессуального закона, необходимых для получения доказательств по делу, и поэтому не может быть признана доказательством по делу.
Кроме того, следователь Чекалин Т. А., приобщивший ксерокопию заявления к делу, не сверил ее с подлинником заявления и не удостоверил ее подлинность, что также лишило доказательственного значения копию заявления, если бы подлинник и являлся доказательством.
Таким образом, из приведенных данных вытекает, что имеющаяся в деле ксерокопия заявления А., в фальсификации содержания которого признан виновным К., не является доказательством по делу.
Поэтому в действиях К. нет состава преступления.
Поскольку заявление А., полученное К., не является доказательством по делу, каким способом оно было получено и по чьему ходатайству было приобщено к уголовному делу, не имеет никакого значения для решения вопроса о наличии или отсутствии в действиях К. состава преступления» 83.
И наконец, приведем выдержку из другого Кассационного определения Верховного Суда РФ, в котором, на наш взгляд, предельно четко сформулирована позиция высшего судебного органа по рассматриваемым здесь проблемам.
«Фальсификация (подделка) означает сознательное искажение предоставляемых доказательств, в данном случае имела место подделка протокола следственных действий. Данное преступление считается оконченным с момента приобщения фальсифицированных доказательств к материалам дела в порядке, установленном процессуальным законодательством» 84(выделено нами. – Авт .).
Однако это, без сомнения, не снижает необходимости установления уголовно-правовой ответственности за совершение и таких фальсификаций (в том числе, сокрытия и/или уничтожения уголовно-релевантной, доказательственной информации и ее носителей).
Опосредованным подтверждением обоснованности такого подхода выступает то, что лжесвидетельство, которое, по сути своей, безусловно, есть не что иное, как фальсификация сведений о фактах, не включено в диспозицию ст. 303 УК – это самостоятельный состав преступления.
И это верно, ибо свидетель не является субъектом формирования доказательств. Более того, сказанное относится и к даче ложных показаний экспертом и специалистом, а также к заведомо ложному переводу; эти лица самостоятельно доказательства не формируют, а потому не могут быть признаны субъектами уголовно-наказуемой их фальсификации.
А вот умышленное искажение показаний следователем/дознавателем, зафиксированное в протоколе допроса свидетеля, последним по тем или иным причинам подписанном, так же, как и включение в материалы дела протоколов якобы допрошенных им лиц, есть преступление, именуемое фальсификацией доказательств.
Особую и, по очевидным на то причинам, наиболее опасную разновидность этих посягательств на доказательственную информацию и доказательства представляет собой подмена материальных объектов, изымаемых при производстве направленных на их обнаружение следственных действий (осмотра места происшествия, обыска, выемки). Еще более распространены на практике случаи умышленного помещения определенных материальных объектов (боеприпасов, наркотиков и т. д.) на определенное место для их дальнейшего «внезапного обнаружения» в ходе названных следственных действий, также осуществляемые с целью создания доказательств вины определенного лица.
Читать дальше