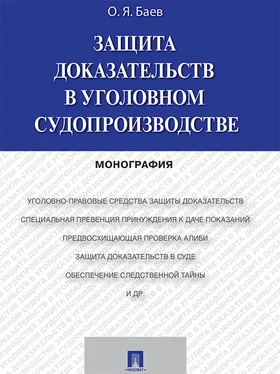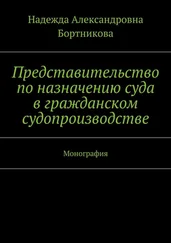1 ...7 8 9 11 12 13 ...33 Но однако в дальнейшем ни следователь в обоснование своего итогового решения по делу (в обвинительном заключении, постановлении о прекращении уголовного дела), ни рассматривающий уголовное дело по существу суд к ним обращаться не будут; эти доказательства утратили для них свойство относимости к делу. И напротив, если принятые этими субъектами доказывания по делу решения будут в надлежащем порядке отменены, то не исключено, что данные доказательства могут вновь приобрести значение относимых доказательств.
Скажем, уголовное преследование в отношении некого лица прекращено в связи с наличием у него алиби, но после отмены этого решения следователя в ходе дополнительного расследования данное алиби опровергнуто, а потому ранее сформированные доказательства причастности этого лица к преступлению вновь приобретают характер относимости к делу.
Сказанное в очередной раз подтверждает то, что доказательством в уголовном деле являются любые относимые сведения, полученные из предусмотренных УПК источников, отраженные в протоколе следственного действия, зафиксировавшем факт, ход и результаты его производства.
Поэтому некорректным следует признать, когда при анализе доказательств зачастую эти параметры смешиваются, используются далеко не точно.
К примеру, по мнению автора одного обвинительного заключения, «доказательствами, подтверждающими обвинение Е. в совершении инкриминированного ему преступления, являются: […]
– протокол осмотра места происшествия от 21.04.2014, согласно которому… (т. 1 л. д. 23–29);
– протокол допроса потерпевшего Р. от 04.06.2014, согласно которому(т. 1 л. д. 195–198);
– протокол предъявления лица для опознания от 09.06.2014, согласно которому Р. опознал мужчину под № 2— Е. (т. 1 л. д. 199–202)».
Более точно с уголовно-процессуальной точки зрения, было бы сформулировать эти приведенные доказательства таким образом:
– место происшествия, при осмотре которого было установлено… (т. л. д.);
– показания потерпевшего Р. от, в которых допрашиваемый сообщил, что… (т. л. д.);
– опознание потерпевшим Р. среди предъявленных ему лиц подозреваемого Е. (т. л. д.) 46.
Значительно более сложной представляется проблема включения в атрибуцию уголовно-процессуального доказательства такого имеющего повышенное значение для всей проблемы защиты доказательств признака, как его достоверность.
Видимо, исходя из того, что уголовно-процессуальный закон указывает, что «каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости и достоверности» (ч. 1 ст. 88 УПК), многие процессуалисты в его атрибутивные признаки, помимо вкратце обозначенных выше свойств относимости и допустимости, включают достоверность содержащейся в доказательстве информации.
«Если, – пишет, например, по этому поводу В. В. Трухачев, – доказательственная информация, хотя бы полученная в порядке и из источников, предусмотренных законом, необъективна, т. е. противоречит комплексу информации, достоверность которой по делу установлена, она не может рассматриваться в качестве доказательства» 47.
Не думаем, что это утверждение обоснованно, хотя бы потому, что оно, в сущности, противоречит законодательному определению доказательств. Вновь напомним, что соответствие со ст. 74 УПК доказательствами являются «любые сведения» , которые получены из указанных в этой же статье источников. Таким образом, закон не включает (и, думаем мы, совершенно обоснованно) в это понятие в качестве необходимого (атрибутивного) его признака достоверность заложенной в доказательстве информации.
Скажем, ложные показания свидетеля, которые он дал при допросе, проведенном без каких-либо отступлений от процессуального порядка производства данного следственного действия, есть «полноценное» доказательство, однако требующее от следователя/суда оценки их достоверности.
«Только после того как допустимость отдельного доказательства установлена, – пишет известный израильский правовед А. Барак, – можно определять, насколько оно весомо» 48.
В следственной и судебной практике известны уголовные дела, по которым многочисленные свидетели дают заведомо ложные показания в интересах, чаще всего, обвиняемого/подсудимого. В то же время достоверными являются показания единственного потерпевшего.
Наиболее яркими примерами, в контексте нашего исследования, могут служить уголовные дела по фактам превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, когда обвинительным и, подчеркнем, достоверным показаниям потерпевшего противостоят противоположные показания многочисленных коллег обвиняемого.
Читать дальше