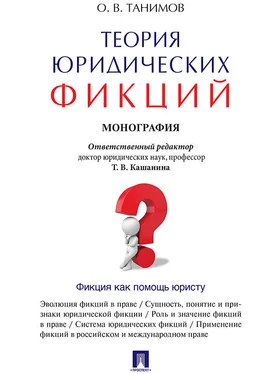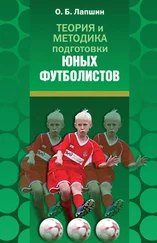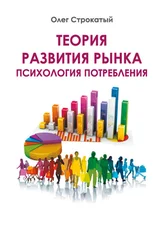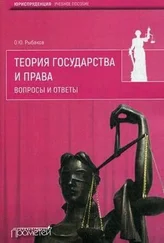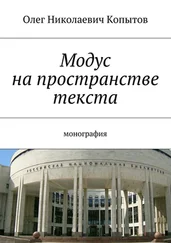Внимательно изучив структуру Уложения, мы, в свою очередь, можем утверждать, что законодатель не просто упускает из виду регулирование определенного рода правовых отношений, но и осуществляет подмену категорий и понятий, объектно-субъектный состав правоотношений с целью наказать за деяния, применить санкцию. Таким образом, налицо множество фикций (как позитивных, так и антиподов закона) и пробелов в законодательстве Монголии.
Так, например, положение женщин и детей по данному Уложению оставляет желать более гуманного и нравственного отношения к ним. Данный факт породил в обозначенных правоотношениях в Уложении немало фиктивных элементов.
По Уложению у женщин и детей нет определенного статуса, их приравнивают к имуществу. «Е сли простолюдин умышленно убьет человека, то ему отсекали голову, «а имущество и скот их, кроме жены и детей, отдать семьям убитых» (ст. 69 Уложения). При этом в переводах этого текста на другие языки отмечалось, что имущество простолюдина состояло только из вещей, а вот в оригинальном тексте «Цааджинбичиг» в имущество простолюдина входили и жена, и дети. Также женщины (сестры, матери, тети, племянницы и т. д.) не входили в круг близких родственников. Во многих статьях Уложения к числу родственников приравнивались отец, дед, дяди, братья, сыновья. «Отныне сумасшедшего отдавать под охрану его деду, отцу, дяде, братьям, сыновьям или сыновьям братьев, то есть самым близким родственникам» (ст. 148 Уложения).
Таким образом, в данном Уложении существовали нормы, ущемляющие права детей и женщин. Их идентифицировали с вещами; таким образом, формировалась фикция в подмене понятий «женщина» и «имущество», что позже отразилось на иных правоотношениях, не только на семейных.
Также нужно отметить, что в некоторых случаях за преступления, предусмотренные Уложением, нет круга лиц, виновных в совершении преступления в соответствии со степенью вины. Часто ответственность за преступления несли совершенно другие люди. Налицо очевидная фикция – подмена лица, в реальности несущего ответственность за совершенное преступление. Так, например, ст. 31 Уложения указывает: «Если воры, убив украденную скотину, оставят тушу, а посторонний человек заберет ее, то он должен заплатить за нее…». В данном случае наказание в виде штрафа понесет фактически посторонний человек, который просто подобрал тушу, а воры, сначала укравшие, а затем убившие животное, выйдут «сухими из воды» и останутся безнаказанными.
Данное положение о подмене лиц прослеживается во многих статьях Уложения. Так, в ст. 68 говорится: «Свидетелю, подтвердившему убийство беглого, дать от ваннов десять лошадей… и он может идти к любому нойону 206по своему выбору. Если будет отпираться, то привести к присяге его дядю». Очевидно, снова ответственность за подтверждение убийства перекладывается на другое лицо – дядю свидетеля.
Помимо фикций в контексте подмены лиц, также нужно выделить фикцию подмены недееспособного лица дееспособным. В ст. 148 Уложения говорится, что «по Шаньдунскому делу “Сюньфуцяньцзяо” об убийстве человека сумасшедшим следует разбирать и наказывать виновного как нормального человека».
Таким образом, сумасшедший человек приравнивался к статусу дееспособного, и ответственность за эти поступки приравнивалась к ответственности, которую нес адекватный, психически здоровый дееспособный человек.
Следует заметить, что также по Уложению был недостаточно точно развит институт равноценности несения наказания за совершение преступления.
В ст. 77 Уложения явно прослеживается данное положение. «Если кто-то в одиночку украдет у кого-нибудь коня, верблюда, корову или овцу – из этих четырех видов скота, – то его удавить, невзирая на то, кто он: хозяин или его раб; если украдут двое – то одного из них убить; если же украдут трое, то убить двоих, но если украдут большой группой, то убить первых двух зачинщиков, а остальным дать по сто ударов плетью и взять с них по три девятка бодо». Налицо снова фикция: так, человек на протяжении всей своей жизни мог совершать преступления в группе и стоять последним в очереди на определение зачинщика, не получая соответствующего наказания за совершение преступлений, т. е. условно считается, что он обладает меньшей степенью вины по отношению к остальным участникам.
Также непонятно, по каким критериям определялись первые два зачинщика. Об этом законодатель просто умалчивает. А норма уложения явно носит фиктивный характер.
Читать дальше