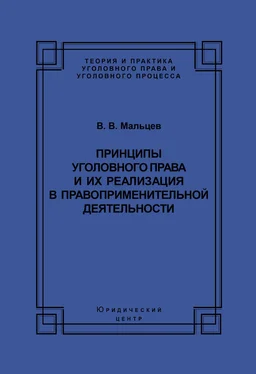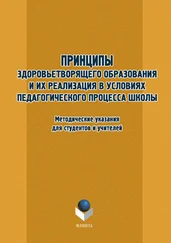На многогранность, изменяемость содержания понятия справедливости, ее тесную связь с социальной действительностью и на место справедливости в общественной жизни обращал внимание А. Ф. Кистяковский. Л. Е. Владимиров писал как об изменяемости понятия «справедливость» (наказание, «не отвечающее уже нашим понятиям о справедливости»), так и о наказании как о «справедливом», «благородном» «удовлетворении чувства негодования, вызванного совершенным преступлением».
В досоветской юриспруденции четкое обозначение получил и гуманистический аспект справедливости. Так, А. Лохвицкий полагал, что уголовное законодательство «выходит из основного начала свободы гражданина», а Л. Е. Владимиров указывал на «человечность» и «разумность» наказания, которое не должно «обездоливать» виновных и их близких. О принципе «экономии карательных мер», иными словами, писал и Н. Д. Сергиевский.
На принципах гуманизма («уважения человеческой личности»), равенства граждан (лицо может подвергаться лишь «принуждению… которому, как общее правило, при равных условиях, подлежат все члены этого союза») и, условно говоря, социальной обусловленности принуждения (допустимо лишь постольку, поскольку оно «необходимо в интересах всех членов данного общественного союза») строил систему принципов «карательной деятельности государства» С. В. Познышев.
Если попытаться дать наименования этим принципам, то они в соответствии с приведенной выше нумерацией могли бы звучать примерно так: 1) принцип достаточной, равной и социально перспективной уголовно-правовой защищенности интересов всех граждан и общественных групп; 2), 4), 5) принцип гуманизма (экономии репрессии); 3) принцип достаточной вменяемости наказуемого лица; 6) принцип эффективного предупреждения преступлений. Следовательно, из шести предложенных С. В. Познышевым принципов уголовной ответственности содержание трех из них (под цифрами «2», «4» и «5») как раз и составляли различные аспекты (оттенки) принципа гуманизма, а содержание остальных было с ними непосредственно связано.
Уравнительный аспект справедливости (равенство граждан перед законом) исследовался в дореволюционном уголовном праве на разных уровнях. В науке утвердились концепции, по которым при разрешении проблем равенства исходили из характера и содержания социального (антисоциального) свойства наказуемых деяний – их общественной опасности. Так, А. Лохвицкий к одному из двух необходимых признаков преступления относил «опасность действия для общества».
В неразрывной связи с общественной опасностью преступления, когда виновный «убивает и насилует других», рассматривал общественную опасность преступника («человека, который опасен на свободе») и назначаемое наказание ( «запирают и таким способом лишают возможности вредить другим») Л. Е. Владимиров. Из «социально-юридического различия» между преступниками исходил и Н. С. Таганцев, отмечавший, что «наказуемость преступления, явившегося случайным, преходящим фактом в жизни учинившего, не может быть одинакова с ответственностью за деяния, в коих проявилась закоренелая преступность, привычка к преступлению. Опасность и вредоносность деяний, зависящая от свойств преступной личности, естественно определяет различие в их уголовной наказуемости» 98 98 Таганцев Н. С . Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая. Т. 2. СПб., 1902. С. 927.
.
Как на основание классификации преступлений («распределяя их по сравнительным размерам наказуемости») и криминализации деяний указывал на их общественную опасность Н. Д. Сергиевский. «Опасность действия составляет несомненное предположение репрессии по действующему праву», – подчеркивал и С. П. Мокринский 99 99 Мокринский С. П . Система и методы науки уголовного права. СПб., 1906. С. 32.
. М. П. Чубинский считал, что «деяния, не заключающие в себе элемента общественного вреда, деяния безразличные, в категорию преступных попадать не должны; из деяний же вредоносных преступлениями должны быть признаваемы лишь те, которые заключают в себе вред, при данной социальной структуре и при данных воззрениях общества более или менее существенный» 100 100 Чубинский М. П . Указ. соч. С. 280.
.
В этом плане как наказ на будущее звучало высказывание А. А. Пионтковского: «…1) образовывать категории явлений преступного порядка лишь из таких видов индивидуальной деятельности, которые, независимо от тех или иных соображений классового свойства, представляются в том или ином отношении вредными или опасными для тех или иных индивидуальных либо коллективных интересов общежития; 2) признавать эти виды индивидуальной деятельности преступными только в том случае, если в интересах борьбы с их развитием и проявлением встречается необходимость в принятии особых мер непосредственного воздействия на их учинителей» 101 101 Пионтковский А. А . Уголовное право (пособие к лекциям). Часть Общая. Вып. 2. Казань, 1916. С. 138.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу