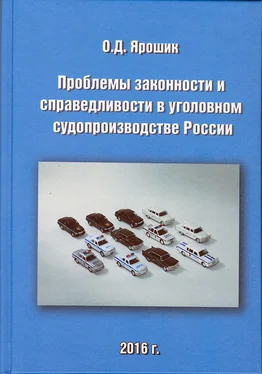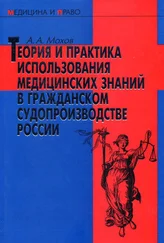С целью получения экспертных выводов в интересах обвинения момент возникновения опасности для движения был определен заинтересованным следствием, а эксперту при отсутствии следов торможения были представлены данные о скорости автомобиля Иванова лишь «40 км/час» и только; на разрешение эксперта были поставлены всего два вопроса. Именно таким образом были получены экспертные выводы о том, что «Иванов располагал технической возможностью, двигаясь со скоростью 40 км/час, предотвратить наезд на пешеходов, и он при этом должен был руководствоваться требованиями п.10.1 Правил движения».
После этого было возбуждено уголовное дело, Иванову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК, в котором было указано, что «при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить…» и далее по тексту.
На вопрос защитника, почему не проводился эксперимент с участием самого Иванова, следователь ответил, что «в этом нет смысла, так как Иванов ничего не видел».
При этом «доследственная» проверка проводилась с мая 2015 года, а дело было закончено в течение одного месяца – сентября 2015 года.
Обвиняемый Иванов заявил мотивированное ходатайство о предоставлении эксперту-автотехнику данных о скорости движения его автомобиля 40-55 км/час, что безусловно могло повлиять на выводы о наличии (отсутствии) у него технической возможности предотвратить наезд; о назначении дополнительной СМЭ с целью установления механизма наезда на погибшего пешехода (имелись основания полагать, что пешеход «набежал» на переднюю левую стойку автомобиля и повредил зеркало, поэтому предъявленное обвинение в части «передней частью автомобиля допустил наезд на пешехода» не соответствовало обстоятельствам ДТП и не только не подтверждалось, но и опровергалось материалами дела); о проведении следственного эксперимента с его участием; о признании недопустимыми доказательствами протоколов осмотра с участием водителя Ушакова и второго пешехода, так как исходные данные для проведения АТЭ могут быть получены лишь в результате следственных экспериментов по правилам ст.181 УПК путем совершения опытных действий, направленных на проверку возможности восприятия фактов и возможности совершения действий водителем Ивановым, проверку фактических данных происшествия, а также имеющихся данных и предположений о возможности наблюдать что-либо, совершить те или другие действия, для выяснения возможности и времени преодоления определенных расстояний – для пешеходов, и видимости и обзорности – для водителя, то есть для выяснения механизма наезда, в условиях, максимально приближенных к тем, в которых совершено проверяемое действие; было также указано, что Ушаков является очевидцем-водителем, а не пешеходом, поэтому «эксперимент» с его участием как статиста проводить было невозможно. 57 57 Из профессиональной практики автора.
Таким образом, получение технических данных, необходимых для производства АТЭ, вне рамок уголовного дела, не в ходе предусмотренного законом следственного эксперимента по правилам ст. 181 УПК, а путем так называемых «дополнительных осмотров места происшествия», либо «осмотров с участием граждан», предоставление этих недопустимых данных эксперту-автотехнику в качестве исходных, является причиной того, что таким «расследованием» не обеспечивается объективное установление всех обстоятельств ДТПи обоснованная юридическая оценка действий его участников.
Но нередко и «опытные действия» совсем не производятся, по делам о наездах на пешеходов нерадивые следователи до сих пор предоставляют эксперту-автотехнику данные из таблицы «Скорости движения пешеходов по данным, полученным Ленинградской НИЛСЭ» 1966 года, применение которой действующим Указанием МВД РФ № 1/8273 от 23.12.2004 года «О мерах по совершенствованию организации раскрытия и расследования ДТП» давно отменено. Между тем пункт 2.9 Указания прямо предусматривает «принятие мер к качественной подготовке и назначению АТЭ путем обязательного проведения следственных экспериментов, исключение случаев использования следователями таблицы «Скорости движения пешеходов». Однако, как показывает практика, некоторые следователи и их руководители даже не осведомлены о таких указаниях своего Министерства.
Справедливости ради надо сказать, что и многие защитники закрывают на это глаза или не знают этих требований, и подобную практику воспринимают как должное. Так «мы отступаем от принципа законности, а других ориентиров справедливости у нас нет» (профессор А.Д. Бойков).
Читать дальше