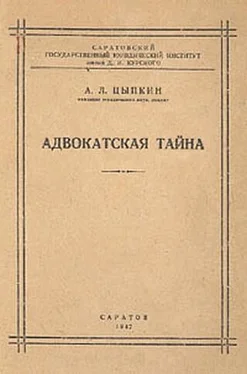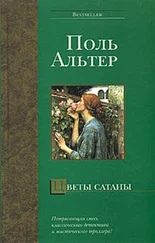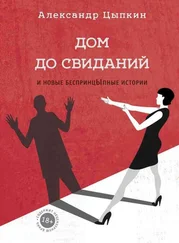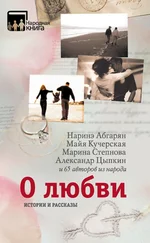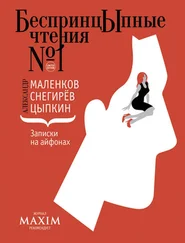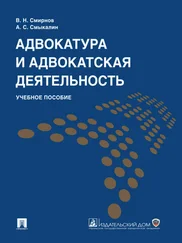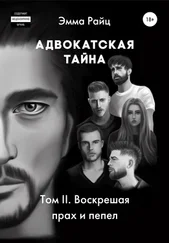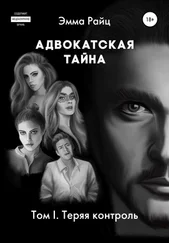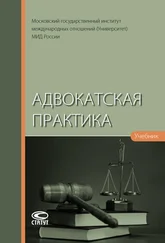Интерес к вопросу об адвокатской тайне в отдельные моменты особенно усиливался. Это объяснялось либо отдельными судебными процессами, либо особой политической обстановкой, при которой возникавшая дискуссия приобретала характер оживленного спора.
Большой интерес к этому вопросу проявился в Англии в связи с делом Курвуазье, слушавшемся в Лондоне в 1843 году. Курвуазье был камердинером у лорда Вильяма Росселя, который был обнаружен убитым в своем доме. Курвуазье был предан суду по обвинению в убийстве. Защитником выступал адвокат Филиппс. В середине судебного разбирательства Курвуазье, настаивая перед судом на своей невиновности, сознался своему защитнику об этом убийстве и просил его продолжать свою защиту. Филиппс обратился к судье Пэрку, не председательствовавшему в этом процессе, за советом, и Пэрк рекомендовал ему продолжать защиту и изложить все те аргументы, которые при добросовестном толковании могут быть извлечены из доказательств, представленных на суде. Пресса, узнавшая впоследствии подробности дела, в течение ряда лет преследовала Филиппса обвинениями в том, что он, зная, что Курвуазье виновен, старался его выгородить и бросить тень на другую прислугу Росселя. [10] См. Владимиров Л. Е. Реформа уголовной защиты. — С. 301; Полянский Н. Н. Правда и ложь в уголовной защите. — С. 80–82.
В России усиленное внимание к вопросу об адвокатской тайне было вызвано делом присяжного поверенного Патэка. При слушании в Варшаве уголовного дела, один из свидетелей (Бартос), сам ранее осужденный, показал, что он на предварительном следствии по своему делу сознался, но на суде по совету своего защитника присяжного поверенного Патэка, — отказавшись от ранее данных показаний, отрицал свою виновность. Бартос добавил, что по подговору товарищей объяснил защитнику, что он вовсе не сознавался следователю, как то записано в протоколах следствия. [11] Это важное добавление опущено у Гессена при описании им этого дела. См.: История русской адвокатуры. Т. 1. — С. 451.
Тогда Патэк посоветовал ему на суде отказаться от сознания. Патэк был привлечен к дисциплинарной ответственности. Он категорически отверг фактическую сторону дела, но отказался дать объяснения по существу, ибо объяснения с подсудимым происходили наедине и составляют профессиональную тайну. Варшавский Окружной суд признал правильными объяснения Патэка и освободил его от дисциплинарной ответственности, но прокурор принес протест, и Варшавская Судебная Палата исключила Патэка из сословия. Соединенное присутствие 1-го и кассационных департаментов Прав. Сената оставило жалобу Патэка без последствий.
В связи с этим делом Юридическое Общество при Петербургском Университете устроило заседание, посвятив его вопросу «О тайне совещания подсудимого с защитником». Докладчиком выступил А. С. Зарудный. В прениях по докладу выступали К. К. Арсеньев, П. И. Люблинский, О. О. Грузенберг, Е. М. Кулишер, М. П. Чубинский, В. Д. Набоков. [12] Труды СПБ Юридического Общества при СПБ Университете. Т. VI. — 1912. — С. 116.
Как в докладе, так и в прениях признавалась правильной позиция присяжного поверенного Патэка и критиковались решения Судебной палаты и Сената. «Без сохранения абсолютной тайны совещания, — говорил докладчик, — когда защитник может откровенно выслушивать и откровенно высказываться, когда защитник уверен, что то, о чем он сегодня беседует со своим подзащитным, не станет завтра достоянием гласности, — нет той искренней глубокой защиты, которая является необходимым элементом состязательного процесса».
О. О. Грузенберг, отстаивая необходимость существования адвокатской тайны, говорил: «Когда против одного человека миллионы людей, надо и ему дать человека, о котором он знал бы, что — вот этот — для него».
О невозможности относиться с доверием к показаниям обвиняемого, раскрывшего тайну и обвинившего адвоката, говорил М. П. Чубинский: «Что такое показания подсудимого? — оговор. К оговору еще старый дореформенный процесс рекомендовал относиться осторожно. Но когда подсудимый оговаривает не третье лицо, а своего защитника — это оговор, соединенный с неблагодарностью, и к нему нужно относиться еще более осторожно. Если вооружить подсудимого таким правом, — пышным цветом расцветет шантаж и вымогательство, для которых откроется новое и широкое поле со стороны подонков преступности, рецидивистов».
Свой доклад А. С. Зарудный закончил словами: «прошу Юридическое общество сказать, что без тайны совещания нет защиты, нет правосудия». И в решениях суда, исключившего Патэка, и в выступлениях адвокатов несомненно проявился тот антагонизм, который тогда, в годы реакции, существовал между царской юстицией с одной стороны и либеральной в немалой своей части адвокатурой с другой стороны. Этот антагонизм особенно проявился в 1904–1905 гг. когда присяжные поверенные принимали резолюции о преобразовании государственного строя. [13] Мы имеем в виду постановление Московского Совета присяжных поверенных от 25 ноября 1904 г. и постановление Петербургского совета присяжных поверенных от 1 декабря 1904 г. «О преобразовании государственного строя». (История русской адвокатуры. Т. I. — С. 402, 401).
Читать дальше