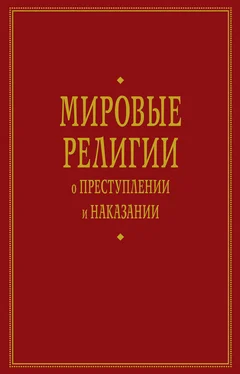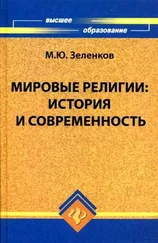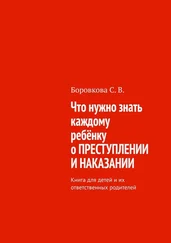В этой связи стоит обратить внимание на ряд отступлений современного уголовного законодательства России от советского, которое в рассматриваемом аспекте было ближе к христианству. Статья 127 УК РСФСР предусматривала ответственность за оставление в опасности: в соответствии с ней всякое лицо обязано было оказывать помощь другому лицу, оказавшемуся в опасном для жизни состоянии, вне зависимости от того, чем это состояние вызвано. Нынешний УК РФ, к сожалению, в большей мере ориентирован на прагматизм. Оставление лица в опасности (ст. 125 УК РФ) влечет ответственность лишь в случае, если виновный «был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние».
Российское законодательство охраняет и другие освященные христианством ценности: семью, детство, собственность, половую свободу, оплачиваемый труд, равенство людей и т. д.
Существует и еще один немаловажный аспект связи христианства с правом: христианство, как религия, выступает в качестве предмета правовой охраны. Статья 148 УК РФ предусматривает ответственность за воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповедания, а ст. 239 УК РФ – за организацию объединения (а оно может быть и религиозным), посягающего на личность и права граждан. Кроме того, христианские, как и иные религиозные организации, находятся под защитой государства и права как юридические лица [117] .
Отмеченные связи права с христианством указывают на более глубокие, исторические корни, соединяющие эти явления; более того, характер рассмотренных точек соприкосновения является свидетельством формирования российского права под влиянием христианства. К сожалению, отечественная источниковая база по данному вопросу достаточно бедна, а исследования на эту тему практически не ведутся. Более активно работают в этом направлении зарубежные авторы. Учитывая, что российское право, в частности уголовное, базируется на западноевропейском, эти исследования возможно перенести на российскую почву.
Правда, по нашему мнению, православному юристу следует подходить к имеющимся публикациям с определенной долей осторожности, соотнося предлагаемые выводы с постулатами православия. К примеру, одно из фундаментальных теоретических исследований направлено на поиск путей примирения права и религии. Но вот что настораживает: автор пытается доказать крайне сомнительный тезис о приоритете права над моралью и политикой. Право, по его мнению, нечто большее, «…чем мораль и политика, вместе взятые» [118] . Если учесть, что мораль может быть и христианской, а какой-либо оговорки на этот счет не делается, то следует признать, что, по мнению автора, право доминирует и над христианством как моралью, а значит, и вероучением. С этим можно было бы и не спорить, рассматривая тезис как сугубо авторскую позицию. Однако далее следует далекоидущий и в конечном счете не согласующийся с догматами православия вывод о необходимости создания «всемирного права», которое бы способствовало «установлению мира между народами», сохранению окружающей среды, снижению межрасовых конфликтов, устранению голода и т. д. [119] . Если сопоставить эту идею с тем, что всемирное право будет обслуживать всемирное правительство, что право и религия должны поддерживать «вновь возникающий единый мировой порядок» [120] , то легко заключить, что единое право предполагает единую религию, причем подчиненную праву и выполняющую идеологическую функцию (поскольку единый мировой порядок – категория политическая и, следовательно, идеологическая).
Русская православная церковь (далее – РПЦ) осуждает как одно из злых начал экуменизма лжеучение «о неизбежности грядущего объединения человечества в единое сверхгосударство с общим Мировым правительством во главе – мондиализмом» [121] . Это означало бы отказ от православия.
Как видно, вопрос о соотношении христианства и права сложный; при его освещении следует знать и постоянно придерживаться подлинных христианских православных канонов. Конечно, при таком ответственном подходе исследование предполагает основательное богословское образование, которое наши юристы, к сожалению, даже в усеченном виде не получают. Следовало бы ввести преподавание курса «Основы христианского учения о праве» или хотя бы «Основы духовной безопасности», что помогло бы ориентироваться в религиозных вопросах. Тем не менее ждать изменений в учебных планах не приходится, и в меру возможностей мы должны попытаться проникнуть в христианство как своеобразную метатеорию российского права. Здесь уместно вспомнить слова великого проповедника Екклесиаста, который завещал потомкам «исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом; это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем» (Еккл. 1, 13).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу